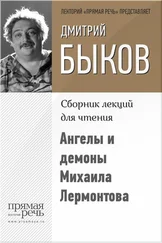Саша Черный в 1916 году был прикомандирован к полевому запасному госпиталю, стоявшему в Пскове, прожил там до 1918 года, а когда в город вошли немцы – уехал с женой в Вильно и оттуда в Берлин. Отравился дымом при тушении лесного пожара 5 августа 1932 года и через несколько часов умер.
Сашу Черного в России начали переиздавать в 1961 году, Гумилева – тридцать лет спустя.
Что случилось с Россией в результате Первой мировой войны – помнят все.
Почему она выталкивала то в могилу, то в эмиграцию всех, кто хотел искренне любить ее и пытался для этого выдумать «настоящую», «правильную», «небесную» Родину,- понятно. Ей этого совершенно не нужно. Ей хочется, чтоб ее любили такую, какая она есть. Любые попытки изобрести что-то другое и работать или гибнуть ради этого другого ей глубоко отвратительны – ведь и нам с вами не нравится, когда вместо нас любят прекрасного вымышленного персонажа.
Девиз всякой истинной любви и всякого подлинного русского патриотизма сформулировал еще Чехов: «Лопай, что дают».
2007 год
Дмитрий Быков
эволюция советского стиля
Мода – всегда пошлость. Следование поветрию, копирование образцов, подражание кумирам – все это сфера масскульта с его неизбежным обесцениванием всего и вся. Мода мила только ностальгически. Отсюда и ретро – тоже мода, и тоже пошлость; однако что пройдет, то неизбежно становится мило. Ненавидя разделять общие увлечения, все моды я начинаю ценить задним числом. Только тогда они обретают в моих глазах ностальгическую прелесть. Законодатели вкусов, ужасающие своим мелким тиранством и дамской капризностью при жизни, после смерти обретают законченность, которую так ценили во всем. И хотя быть современником Ренаты Литвиновой невыносимо – я понимаю ее поклонников из будущего. Из будущего, в котором она уже не опасна, я бы и сам ее больше любил.
Советский вкус на протяжении семидесяти лет истории СССР претерпел три главных изменения, прошел три фазы, могущие условно быть обозначены как конструктивизм, ампир и скромный отечественный модерн; аскеза, роскошь и межеумочный демократизм; символом первого была кожанка, второго – генеральская форма, третьего – ковбойка. Третий стиль – это возвращение к первому после искушения вторым; советская хрущевка и сменившая ее девятиэтажка – это среднее арифметическое между бараком и сталинской высоткой. Круг замкнулся, и советская история кончилась.
Аскетизм двадцатых был не просто следствием так называемой победы так называемых пролетариев, которые как раз омещанились первыми, обзавелись абажурами и канарейками и запрезирали все, ради чего они кровь проливали (хотя и проливали-то не они – гражданская война была прежде всего войной крестьянской). Ранняя советская аскеза была сознательным выбором, стилем существования – не до конца истреблены еще были люди, у которых между жизнью и образом жизни не было зазора. Эстетизировать, так всё. Вкус двадцатых – это вкус картошки, запекаемой в печурке, и селедки, выдаваемой по разнарядке; черный хлеб, папиросы «Ира», только и оставшиеся от старого мира, а в одежде конструктивизм ценит исключительно прочность и универсальность. Господствует унисекс. Это был, разумеется, вызов НЭПу с его второсортными роскошествами: НЭП был ненавистен идеологам всемирной революции, большинство художников были либо стихийными троцкистами, либо богоискателями, и в новых временах им было крайне неуютно. Надо сказать, что нэповский стиль канул очень быстро, а конструктивизм определил все тридцатые. Разумеется, с годами все эти замечательные люди, конструкторы миров, «большевики пустыни и весны», вышли в большое начальство и стали кроить мир уже реально,- но аскетической своей юности оставались верны. Разве что вошли в моду авиаторы: главный персонаж тридцатых годов – летчик.
И еще, конечно, журналист. Такой Кольцов. Этот советский конструктивизм и люди, его исповедовавшие, неотразимо подействовали на Хемингуэя – он увидел их в Испании и пленился навеки. И я бы тоже так хотел. Быть советским журналистом, посланным в Испанию, сидеть в баре регулярно обстреливаемого мадридского отеля, и чтобы рядом французский коллега, бормочущий под нос: «Жизнь – дерьмо. Бабы – дерьмо. Фашисты – дерьмо. И знаете, Димитри, республиканцы тоже дерьмо». Потом входил бы американец, весь такой же подтянутый, как наши, советские, но при ближайшем рассмотрении мертвецки пьяный. «В хорошей корриде,- говорил бы он доверительно,- самое главное – удар. Если у вас нет удара, вы не будете хорошим тореро, даже если у вас есть все остальное». И демонстрировал бы настоящий удар – бутылкой о стойку. Тут входила бы голландская корреспондентка со сливочно-нежным телом, только что из пекла боя, вся полная азарта и неутоленного желания,- которое я бы, естественно, и утолял наверху как избранный ею герой, наиболее романтический персонаж всего этого интернационального братства деловитых авантюристов. И сообщение о том, что Каррамба отбита, я отправил бы в «Известия» первым – хотя в СССР само понятие конкуренции бессмысленно, и никому, кроме очкастых школьников-радиолюбителей, нету дела ни до какой Каррамбы, ее и на карте-то не всякий найдет.
Читать дальше