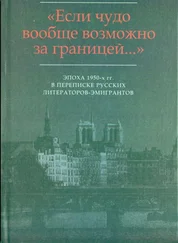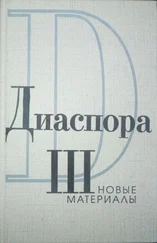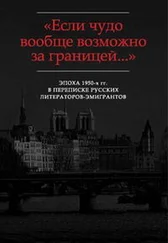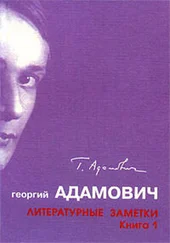прекрасно сработанными… Прочтешь, перечтешь что-нибудь такое, «бередящее старые раны», — и задумаешься над благодатным бесчувствием и беспамятством человека. Не будь человек чурбаном, мы не находили бы себе места, выли бы от ужаса и стыда, усиленного еще и тем, что по-видимому «так было и так будет», пока стоит свет. Мы бросили бы запоздалые, мстительные, глупые взаимные обвинения, поняли бы, что
все виноваты, каждый по-своему, что всем есть в чем упрекнуть себя, есть от чего внезапно покраснеть «до корней волос», что в судьи нас никто не ставил, что слепая жестокость истории воплощается в отдельных волях, которыми играет, как пешками
что какая-то общечеловеческая круговая порука должна бы восторжествовать над раздорами, над страшным и бессмысленным месивом последних десятилетий. Словом, мы не «жили» бы, а остановились бы в оцепенении, с внезапной остановкой всех бесчисленных мелких колесиков, на которых благополучно катимся от одного дня к другому, от года к другому году, и дальше, к общему для всех нас финалу, с речами, венками или без речей и венков, в яме… Но мы живем:
-Да, да, конечно, всё это ужасно, да, поговорим об этом когда-нибудь в другой раз, да, совершенно верно, нельзя забыть, «человек человеку бревно», я сам так считаю… А знаете, завтра вечером г. Икс, только что прилетевший из Мюнхена, читает доклад с любопытнейшими, говорят, прогнозами насчет эволюции международных отношений. Наш г. Игрек рвет и мечет, говорит, что пахнет провокацией, собирается возражать. Надо бы сбегать за билетом, а то все разберут, при входе не останется. Но вы что-то морщитесь… Неужели вам неинтересно?
– Нет, интересно. Возьмите, пожалуйста, и для меня билетик.
Это писано лет тридцать пять тому назад, и теперь, после долгожданного оживления Церкви, после Папы Иоанна и Второго Ватиканского собора, это может показаться ошибочным. Дай Бог, чтоб ошибочным это и было! Но не оттого ли Церковь и очнулась от забытья, не оттого ли содрогнулась, что опасность стала слишком уж очевидной и близкой?
Знал ли он фразу Ренана: «История церкви есть история предательства» (или измены — trahison - в «Апостолах»)? Впрочем, по существу, для Ренана всё в этих делах было безразлично, и, не вдаваясь в обсуждение, кто прав, кто виноват, он под личиной исторического беспристрастия лишь «констатировал» со среднефранцузской антиклерикальной запальчивостью то, что Достоевского приводило в содрогание.
Тэн — по свидетельству М. де Вогюэ — утверждал, что Тургенев — «единственный эллин в новой литературе». Это, конечно, преувеличение. Но возможно, что сквозь Тургенева Тэн почувствовал его учителя Пушкина, и если это так, никакого преувеличения в словах его нет.
Тютчеву же принадлежит удивительное объяснение гибели французской армии в 1812 голу. Наполеон, «воитель дивный», не предвидел, по его мнению, «лишь одного»: того, что противником его будет не Барклай де Толли, не Кутузов, а сам Христос. А стихотворение это — «Проезжая через Ковно» — само по себе необыкновенно хорошо: один на тютчевских шедевров.
Думаю все же, по далеким, дорогим воспоминаниям, что «что-то» загадочное, неподдающееся определению, «какой-то отблеск какого-то света» тогда действительно мелькнул в сознаниях. Но сколько было лживой шумихи, бесподобно описанной Андреем Белым, сколько было подделок, подлаживаний! Уже здесь, в Париже, у меня был об этом любопытнейший разговор с Зинаидой Николаевной Гиппиус, «бабушкой русского декадентства», разговор, о котором стоило бы когда-нибудь рассказать. Она отрицала то, что до сих пор представляется мне несомненным, и настойчиво повторяла:
-Нет, не было ничего!
Но едва ли была она права.
Догадка при пересмотре текста: возможно, что термину «знание» придано здесь значение ограниченно-психологическое, внушенное Фрейдом, Юнгом или новейшими теориями о природе слова. Но опрометчивости его это не уменьшает.
Платон, как всем известно, был врагом поэтов и обрёк их на изгнание из своего идеального общества. Но не произошли ли тут недоразумения? Не сузил ли он понятие поэзии до условного, хотя и самого распространенного о ней представления? Если бы ему возразили, что он, величайший поэт древности, осуждает самого себя, каков был бы его ответ? Пример недоразумения – как у нас осуждение Шекспира Толстым.