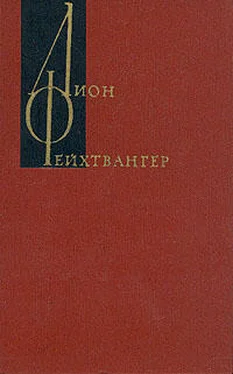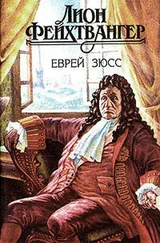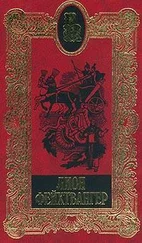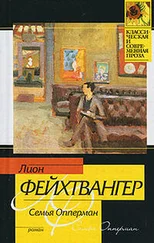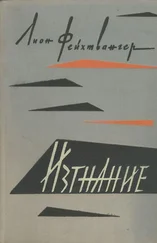Характерно, что именно в «Персах», самом могучем патриотическом произведении всех времен, слово «персия» вообще не встречается. Эсхил говорит о персидской земле, о персидских воинах, женщинах, войске, богах, о персидском языке и персидских обычаях; но он не говорит о Персии. Его патриотизм отнюдь не понятийный, он наивный, предметный. Слово «отечество», которое древнегреческие ораторы и историки столь охотно пускали в ход, также встречается в «Персах» всего один-единственный раз. Патриотизм Эсхила, как бы ни был он полнозвучен, – не риторический, а творческий, образный. И как удивительно осязаемы его боги, его религия, которую он решительно возвращает в область реального, едва она пытается воспарить в заоблачные выси, так и его патриотизм, пронизанный религиозным чувством, есть не плод философствующего ума, а плод живых чувств. Отсюда его сдержанная, суровая сила, его творческая мощь, его убеждающая нас убежденность.
«Персы» в смысле технического мастерства довольно несовершенны, и само произведение не вполне соответствует строгим и прекрасным канонам греческой трагедии. Пьеса еще не совсем перешла из эпико-лирической стихии в драматическую. «Персов» справедливо сравнивали с теми архаическими статуями, у которых ноги сомкнуты, а руки прижаты к туловищу. Да и вообще пьеса на редкость бесхитростна. Многие ужасающие события того времени, которые поэт и сами зрители в полной мере испытали на себе, он опускает или трактует их так, как это больше подходит для его пьесы. Эсхил сам принимал участие в битве при Марафоне, он пожелал, чтобы лишь об этом было сказано в его эпитафии, где ни словом не упомянуто о его победах в состязаниях трагических поэтов. [73]И все же Эсхил изображает дело так, будто Дарий [74]никогда не предпринимал неудачного похода против Эллады. Дарий построил мост через Боспор Фракийский и лично командовал войском во время злосчастного похода против скифов: поэт делает вид, будто этих важнейших событий вообще не было. Царица Атосса, по свидетельству греков, была опасной интриганкой, нечто вроде античной императрицы Евгении, непосредственной зачинщицей войн с Элладой: Эсхил же превращает ее в почтенную, чуть ли не божественную женщину; ибо лишь в такой трактовке она подходит для его замысла. Он вообще полон беспечной искренней наивности. Его персы непрерывно сами себя называют варварами, что, правда, по-гречески звучит мягче, а свой язык – неблагозвучным.
Замечательной противоположностью этой, в сущности, простодушной субъективности служит его объективность в восприятии крупных событий. Тут повсюду соблюдена мера, нет и следа чванства. Чтобы усилить восточный колорит, поэт приводит огромное число своеобразно звучащих персидских имен – и ни единого греческого. Не упомянуто даже имя любимца Эсхила Аристида [75], которым поэт всегда восхищался. Победу одержали не хитрость, не мужество, не лучшая стратегия, а боги. Поэт не хулит персов; никто в его трагедии не называет их вероломными. Напротив, они храбры; ведь даже высокомерие Ксеркса, бросающего вызов богам, как бы извиняется молодостью царя, а старый Дарий, вопреки всему, что знал о нем поэт, предстает в пьесе снисходительным, благородным, богоравным властителем. В «Персах» нет опьяняющих криков «ура», но везде ощущается непоколебимое, гордое и естественное доверие к богам и подчинение их воле. «Ни один грек, – писал Генрих Фосс [76], – не постиг идеи Немезиды, карающей людское высокомерие, так возвышенно и так глубоко, как Эсхил; Наполеон, которого обуревала мечта стать коронованным императором Востока и который теперь находится в заточении на острове Эльба, мог бы явиться отличной моделью для его кисти. Когда «Персы» были впервые поставлены в Афинах, это произвело, по-видимому, огромное, совершенно невероятное впечатление. На сцене появлялся вестник и начинал рассказывать матери Ксеркса об ужасном поражении многотысячного войска, переходя от жалобного пиано до громового фортиссимо. Каждое слово Эсхила становится хвалебной, величальной песней ничтожной горстке греков, которые, доверившись богам и преисполнившись священного мужества, одержали победу над дикой ордой. По этому случаю была изваяна статуя Немезиды – из той самой глыбы мрамора, которую персидский царь вез с собой, чтобы воздвигнуть памятник в честь победы над греками».
«Персов» легко упрекнуть в недостатке действия. Можно сказать, что пьеса эта – не что иное, как бесконечный ряд вариаций на тему: «Ах! Мы, бедные персы, побеждены!» Прекрасно, но каковы эти вариации! Тут и грандиозный рассказ о битве при Саламине, и странная, скорбная, западающая в душу песня, взывающая к мертвому Дарию в Аиде; тут и мрачное, покорное судьбе пророчество старого царя, тут и архаически-безыскусное, задушевное прославление прежних времен, тут, наконец, по-восточному дикая, натуралистическая траурная оргия в конце; тут вся эта бурлящая, стонущая, визжащая, кричащая, ревущая, бросающаяся наземь, рвущая на себе волосы, в кровь раздирающая себе грудь толпа, опьяненная вакханалией экзотически неистовой скорби.
Читать дальше