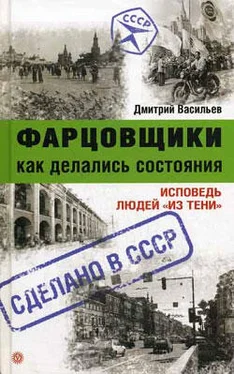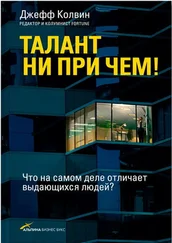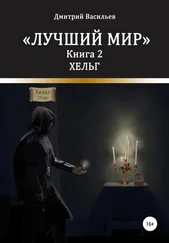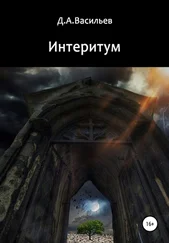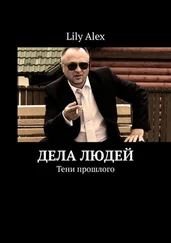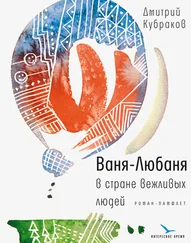Кто-то же должен быть виновным, а тут и напрягаться не надо – достал личные дела и пиши в графу «задержания» даты и предъявленные обвинения. А по накоплении нескольких приводов, пусть даже они и были «липовыми», несовершеннолетнему нарушителю закона грозило уже настоящее (почти взрослое) наказание – определение в спецшколу. А спецшкола – это та же тюрьма, со всеми ее специфическими законами. Эдакая «маленькая зона». Такие, с позволения сказать, школы даже внешне ничем не отличались от тюрем. В Ленинграде одна такая «школа на зоне» была расположена возле железнодорожной станции «Удельная», в советские времена этот район считался окраиной и был практически не населенным. Вот туда и «спроектировали» психиатрическую больницу им. Скворцова-Степанова, в просторечии «Скворечник», и детскую «спецшколу». Кстати, пусть вас не сбивает с толку слово «школа». Дети там находились без права покидать территорию год-два, жили в казармах, они же бараки, а территория была обтянута по периметру колючей проволокой. Теоретически попасть в такое учреждение ребенок мог с первого класса. Хотя большинству «воспитанников» все же перевалило за первый десяток.
Кроме карательных мер государственная система пыталась бороться с чуингамщиками и с помощью превентивных мер. К ним относились в первую очередь разъяснительные беседы в школах. Эта миссия была возложена на завучей и директоров, но помогала подобная говорильня мало. Зато в чью-то «умную» голову пришла идея бороться с таким антисоветским явлением, как вымогательство у иностранцев, «народными способами». Есть у меня определенные подозрения, в каком именно силовом ведомстве служила данная «умная голова», но конкретных доказательств, конечно же, нет, и быть не может. Народные способы зиждились на том же принципе, что и большинство воспитательных мер для детей, придуманных с начала существования человечества. Сначала детишек пугали Бабой Ягой и Лешим, потом «врагами революции», фашистами, а потом дошла очередь и до иностранных диверсантов. Даже я прекрасно помню ходившие по школам слухи, информационная составляющая которых заключалась в «пересказе» ужасных историй, случившихся с детьми, клянчившими у иностранцев жвачку. Периодически такие «сто первые рассказки Кривеллы» запускались в качестве утки, и надо сказать, их действие было более эффективно, чем занудные предостережения учителей, построенные на набившей оскомину идеологии. То и дело в школьных коридорах полушепотом передавали трагическую историю мальчика, который «вот так вот попросил жвачку, ему и дали, а он съел и через час умер в страшных мучениях – пена изо рта пошла зеленая». Иногда в главных героях такой страшилки выступала девочка, подробности мучительной смерти тоже менялись, но суть оставалась неизменной: невинный советский ребенок умирал вследствие жестоких козней иностранного диверсанта. Вот вам смешно, а дети, между прочим, принимали весь этот бред за чистую монету.
Не могу сказать, насколько подобные страшилки, вкупе с профилактическими беседами учителей, помогали предотвращать появление чуингамщиков. Статистики подобной, как вы понимаете, и быть не могло, но охотно допускаю, что кто-то из тех детей, которые оказались в непосредственной близости от реализации возможности «бомбить» иностранцев на жвачку, просто-напросто испугались и не решились довести намерение до конкретного результата.
А вот то, что думали о подобных «байках» сами чуингамщики, вряд ли можно дословно привести на страницах этой книги. К сожалению, ненормативной лексикой юные фарцовщики владели несравненно виртуознее, чем литературным русским языком. Если же попробовать перевести их мнение на приличный лад, то выглядеть подобный перевод будет приблизительно следующим образом: «Ну и чудненько. Нам же конкурентов меньше». После чего малолетний фарцовщик обязательно должен был презрительно сплюнуть и вернуться к выполнению своих обязанностей.
В некоторых случаях чуингамщиков использовали как помощников и старшие коллеги по бизнесу. Крутившиеся возле гостиниц малолетки были у них «на подхвате», и их иногда высылали натуральным образом на разведку. Выбирался иностранец, к которому подсылался наивного вида «ангелочек» с предложением обменять что-нибудь на сувенир. Сувенир ребенку давался, разумеется, грошовой стоимости, но если иностранец был готов пойти на контакт, он тут же понимал – имеет смысл последовать за дитем, которое приведет его к более серьезным деловым партнерам. Так и происходило, и сделка заключалась уже не на виду у сотен прохожих и не под бдительным оком советских милиционеров, дежуривших возле каждой гостиницы, а в укромной подворотне или даже в припаркованной неподалеку машине.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу