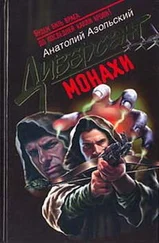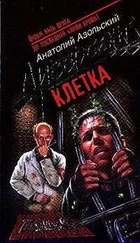И, что немаловажно, каждый член Политбюро имел своего, преданного только ему человека среди начальников отделов. С середины 20-х годов Сталину верно служил некий полулегальный орган для расправ с неугодными людьми, ему приписывают уничтожение Фрунзе и Бехтерева, но после бегства за границу Бажанова, секретаря Сталина, после того, как не вернулись из командировок и остались в Европе многознающие спецы ОГПУ, сохранившие связи с московскими друзьями и коллегами, прибегать к помощи этой конторы было опасно. Киров к тому же был членом Политбюро, а с этим органом приходилось считаться, он был островком безопасности в бушующем море партийных и внепартийных расправ. Страх за себя заставлял Сталина поддерживать у членов Политбюро эту иллюзию неприкосновенности; с Вождем еще можно было спорить, нередко бывало, что Сталин оставался в меньшинстве. Инспирированное им убийство Кирова объединило бы противников Генсека, обнаружить им причастность Сталина к выстрелу было бы нетрудно.
1 декабря в Москве судорожно решали, что делать, в Ленинграде же и в тот день, и в последующие дни (и годы) творилось нечто противоестественное, ни в одну из логик не вмещающееся. Люди, и следователи тоже, будто в тумане брели или во тьме, на ощупь узнавая, что за предмет перед ними, и понимая, что делают что-то не то, делают не так, как надо. Произошло какое-то массовое рассогласование действий, все будто спятили. Ни с того ни с сего то ли погибает, то ли умирает не по своей воле оперкомиссар Борисов, обязанный в целости и сохранности довести Кирова от главного подъезда до кабинета. Свидетель смерти или убийства Борисова, шофер грузовика, на котором везли охранника к Сталину на допрос, столько раз за тридцать с лишним лет менял показания, что к концу жизни не знал, что же произошло в грузовике и сам ли он сидел за рулем. Газеты назвали имя убийцы, но продолжались партийные судилища над теми, кто, будучи свидетелем убийства, рассказывал о том, что Киров убит Николаевым. С того рокового выстрела убийство Кирова стало задергиваться пеленой таинственности, загадочности, и хотя простейшее объяснение тому напрашивается само собой (разновеликость фигур убийцы и жертвы), выстрел произвел ошеломляющее впечатление на Ленинград, СССР и весь мир. (Некоторые газеты на Западе вышли с аршинными заголовками: “Начало террористической борьбы с большевиками!”) Во всем винили арестованных зиновьевцев, хотя по донесениям агентуры народ почему-то (в те времена еще ляпали по пьянке всякую несусветицу) придерживался типично обывательского мнения: во всем “виновата баба”. Академик Павлов, больше общавшийся с собаками, чем с людьми, и под русского дурачка работавший, чутко вслушивался в разговоры своих ассистентов, в ругань домработницы и прокомментировал убийство тоже по-обывательски: “Ревность!”
Мир не безмолвствовал, потрясенный очередным убийством, которому сразу придали статус политического, которое долгие годы приписывалось, конечно, Сталину. Троцкий, ненавидевший его, разразился серией статей. (Кирова будущий вождь Интернационала не жаловал, называл его “серым болваном”). Сбежавший в Америку Орлов тоже метал громы и молнии, рисуя фантастические картины сталинских зверств, что, однако, легко объяснимо: Орлов играл сложную партию с ФБР, ему выгодно было списать Кирова на Сталина, он готов был на него возложить и вину за гибель “Титаника”. В следствии по “Ленинградскому центру” Орлов участия не принимал, вообще находился вне СССР, вообще все писал с чужих слов, искажал намеренно, чтобы прослыть неосведомленным. Но вот Люшков, один из следователей по делу Кирова, человек более осведомленный, к японцам перебежавший, — этот Люшков отводил Сталину роль наблюдателя, никакого заговора, твердил перебежчик, не было, Сталин не виноват.
Но тогда, в декабре 1934 года оторопевшая страна клеймила позором убийц оппозиционеров и, озираясь днем в испуге, понимала неотвратимость приближающейся беды, по ночам вздрагивая. Все догадывались, что никакого заговора не было, а следователи точно знали, потому и не удосужились даже грамотно писать все относящиеся к убийству бумаги.
29 декабря завершился процесс над “Ленинградским центром”, любой суд как бы ставит точку в затянувшемся следствии, определяя меру наказания каждому. Приговор вынесен, следователям можно с некоторым облегчением вздохнуть, но происходит эпизод, который умолчанию не подлежит.
В 6 часов 40 минут утра 29 декабря суд оглашает приговор, к расстрелам приступили через час. Первым получил свою пулю Николаев, затем Румянцев, последним шел Ванюша Котолынов. Так решили Агранов и Вышинский, привезший из Москвы вердикт Сталина: всех — расстрелять! Всех — в нарушение общемировой практики, заставляющей судей дифференцировать наказания для вящей беспристрастности Фемиды. Всех — отрезал Сталин по телефону и Ульриху, председателю Военной коллегии Верховного суда СССР, когда тот попросил оказать милость Фемиде. (Полтора года назад, когда судили вредителей на электростанциях, приговаривали осужденных — не без подсказки Сталина — к разным срокам, а одного даже освободили от наказания. Вышинский, тогда прокурор РСФСР, поддерживал на суде государственное обвинение.)
Читать дальше