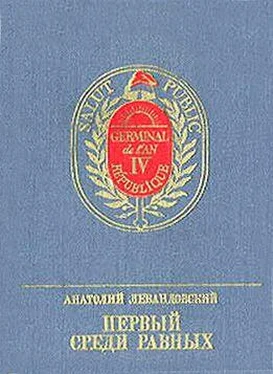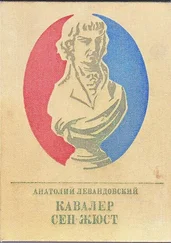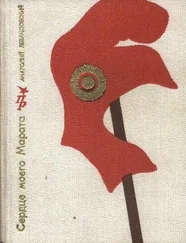Последнее вряд ли стоило делать: события, происходившие на его второй родине, не давали никаких поводов для этого.
Но Лоран всегда считал, что любые перемены в политической обстановке могут совершенно неожиданно обернуться самым благоприятным (равно как и самым неблагоприятным) образом. Разумеется, в данном случае он рассчитывал на первое.
34
Его надежды в какой-то мере были надеждами всех французов. Начало нового царствования всегда пробуждало чаяния: а вдруг станет легче?… А вдруг этот лучше?… Новый монарх Карл X, сменивший Людовика XVIII в 1824 году, казалось, давал кое-какие основания для подобных надежд. Он был приветлив, остроумен и афишировал свою общедоступность. В первые дни царствования он дал широкую амнистию по политическим делам и отменил цензуру; эти акции, кстати говоря, и побудили Лорана выступить со своим прошением.
Но вскоре стало ясно, что за либеральным фасадом скрывается твердолобость реакционера, много большая, чем у покойного короля в худшую пору его деятельности. Если Людовик XVIII пригревал эмигрантов-аристократов, бежавших из Франции в годы революции, то Карл X провёл закон о миллиардной компенсации их «потерь» за счёт новых налогов, падавших на широкие слои населения страны; если Людовик XVIII расстреливал и вешал карбонариев, то Карл X, сверх того, восстановил и средневековую казнь за проступки против церкви.
Поднимая «поповскую партию», он явно стремился реставрировать абсолютизм «божьей милостью» в полном объёме. Были восстановлены все старые придворные должности и звания, упразднена национальная гвардия, со всей пышностью проведена торжественная коронация в Реймсском соборе — словно во времена «короля-солнца».
Нет, напрасно в этих условиях старый конспиратор рассчитывал, что его пустят во Францию.
Министр-реакционер Виллель отказал ему во въездной визе.
С этим пришлось пока примириться.
Но, верный себе, Лоран утешался поговоркой: «Чем хуже, тем лучше». Чем дальше шло время, тем отчётливее чувствовал он проверенным нюхом опытного борца: грядёт новая революция.
А уж революция-то откроет ему двери во Францию, в Париж.
35
Он внимательно просматривал и сортировал письма, полученные за последний месяц.
Одно известие особенно поразило его. Снова и снова возвращался к нему Лоран и каждый раз, когда перечитывал скупые строки старого товарища по борьбе, ловил себя на мысли: что-то здесь не так. Либо друг его от дряхлости поглупел, либо сам он недопонимает сути изложенного, либо это очередная проделка неуёмного Робера Эмиля, сына Бабёфа. Характерно, что сам Робер Эмиль, который о чём только ему ни писал, об этом не проронил ни слова.
Речь шла о «Мемуарах» Гракха Бабёфа. Всё говорилось очень смазанно и неопределённо, но автор письма намекал, что «Мемуары» уже ходят по рукам и ставится вопрос об их опубликовании.
Мемуары Бабёфа… Какой вздор! И кому только такое могло прийти в голову?… Он-то, Лоран, совершенно точно знает, что никаких мемуаров его великий друг не писал. Он пытался начать нечто вроде автобиографического наброска, пытался не один раз (и копия этого наброска имеется в архиве Лорана), но дальше полустраницы дело не пошло — на большее у трибуна никогда не находилось ни времени, ни желания, — даже в тюрьме он был по горло занят.
Лоран снова обратился к строкам из письма трибуна к Феликсу Лепелетье от 26 мессидора IV года:
«…Когда тело мое будет предано земле, от меня останется только множество планов, записей, набросков демократических и революционных произведений…»
Сказано ясно. Нет, никаких «Мемуаров» не было и быть не могло. Можно представить себе, какая низкопробная мешанина, какой набор лжи и чепухи читается там, во Франции, наивными людьми, которым кто-то морочит голову…
Нет, это дело надо пресечь в корне. И выход подлинной биографии апостола Равенства лучше всего выбил бы почву из-под ног фальсификаторов.
Но кто же они, эти фальсификаторы? Кому нужна столь жалкая комедия? Кто заинтересован в ней?…
Сколько ни думал над этими вопросами Лоран, он не смог придумать ничего другого, кроме сразу же, в самом начале, пришедшего на ум: это очередная проделка всё того же Робера Эмиля, а кто стоит за его спиной, сказать трудно,
36
Есть странная закономерность: после великих людей часто остаются бесцветные дети.
Об этом снова подумал Лоран, подумал невольно, перечитывая письмо парижского друга.
Читать дальше