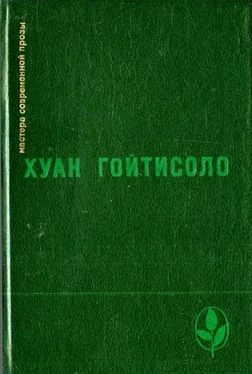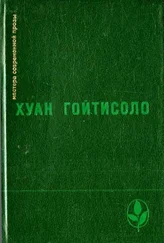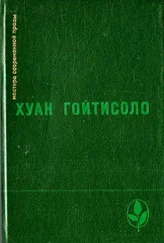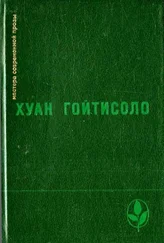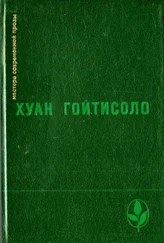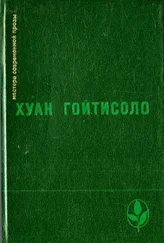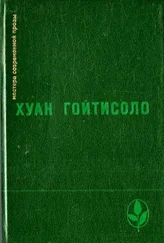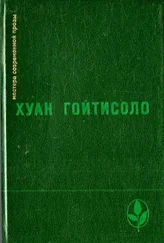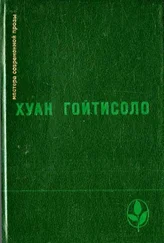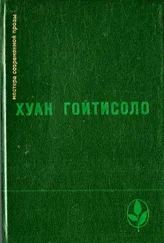И Дон Кихота и Санчо мы видим одними — в день, когда второй решает поступить на службу к первому, и совсем другими — когда, побежденный Рыцарем Белой Луны, Дон Кихот возвращается умирать к себе в деревню, сопровождаемый верным Санчо. За время, разделяющее эти два эпизода, Санчо «кихотизируется». Дон Кихот же отчасти проникается несколько циничным реализмом Санчо Пансы. Так, материалист Санчо отказывается от управления островом, чтобы последовать за своим хозяином («Оставайтесь с богом, ваши милости, и скажите сеньору герцогу, что голышом я родился, голышом весь свой век прожить ухитрился: я хочу сказать, что вступил я в должность губернатора без гроша в кармане и без гроша с нее ухожу — в противоположность тому, как обыкновенно уезжают с островов губернаторы»;
[3] Цит. в переводе Н. М. Любимова по изданию: М. де Сервантес Сааведра. Дон Кихот. ГИХЛ, т. 2.1954. Глава LIII, с. 303.
в свою очередь Дон Кихот, понимающий, что Санчо приврал, описывая их воображаемый шуточный полет на спине Клавиленьо, говорит ему: «Санчо, если вы желаете, чтобы люди поверили вашим рассказам о том, что вы видели на небе, то извольте и вы со своей стороны поверить моим рассказам о том, что я видел в пещере Монтесиноса. Вот и все, что я хотел сказать».
[4] Там же, глава XLI, с. 236.
Как пишет поэт Луис Сернуда: «Это чуть ли не единственный случай, когда Дон Кихот поступает подобным образом, как если бы он сам сомневался в истинности своих приключений. Но при всем том это весьма значимо». Испанцы до мозга костей, герои Сервантеса не рассуждают логически, но, как правило, мыслят ценностными категориями. И здравый смысл и безрассудство воплощаются для них в людях, а не в объективной реальности их мыслей — это национальная черта, в силу которой в испанцах до сегодняшнего дня так сильна склонность путать самих авторов и их произведения; отрицать вполне обоснованные суждения и абстракции — ради поисков якобы спрятанного за ними «истинного Я»; впадать то и дело в культ нетерпимости, суеверно благоговеть перед «авторитетами» и почитать пустую и бесплодную мечтательность.
В «Селестине» [5] Общепринятое название романа-драмы Фернандо де Рохаса (ок. 1465–1541) «Трагикомедия о Калисто и Мелибее», сыгравшего значительную роль в формировании национальной драмы и плутовского романа.
мы впервые сталкиваемся с изменением иерархия ценностей, которое впоследствии окажет решающее влияние на развитие плутовского романа. Прежде в романах и драматических произведениях существовало два вида любви между героями: идеальная и возвышенная, в духе Петрарки, — у господ; плотская, «низменная» — у слуг и других безродных персонажей, Америке Кастро очень верно подчеркнул, что в произведении де Рохаса потаскухи вроде Элисии и Ареусы требуют ухаживаний за собой, как великосветские дамы, в то время как любовь Калисто к Мелибее — откровенно чувственная и даже с примесью садизма: «Не губи меня, не обходись со мною дурно, — умоляет Мели-бея, — зачем ты привел мое платье в беспорядок?» [6] Фернандо де Рохас. Селестина. Трагикомедия о Калисто и Мелибее. Перевод Н. Фарфель. М., ГИХЛ, 1959, с. 205.
Потаскухи от души смеются над утонченностью героини; выражая общие чувства обращенных, презираемых общественным мнением исконных христиан, Ареуса восклицает: «Народ всегда зря болтает… Низок тот, кто сам считает себя низким. Каковы дела, таков и род, все мы в конце концов дети Адама и Евы». [7] Там же, с. 130.
Если мысли новохристиан Фернандо де Рохас (который и сам был ex illis [8] Одним из них (лат.).
вкладывает в уста двух публичных женщин, то Мелибея и особенно Калисто в его произведении воплощают по-своему острый конфликт между христианским пуританством и мусульманской чувственностью, Что же до старой сводницы Селестины, то этот образ восходит к арабской литературе Аль-Андалуса: несомненно мавританка по крови, как и все ворожеи в то время, она становится орудием, необходимым Калисто для удовлетворения его необузданной грубой страсти. Несмотря на свое благородство и знатное происхождение, Калисто уже оказывается, как и испанцы будущих поколений, жертвой борьбы между двумя противостоящими цивилизациями — магометанской и христианской, ибо наделен безудержной чувственностью мусульманина и задавленным сознанием католика, иначе говоря — душой христианина и телом араба. Со времен Католических королей испанские писатели все отклонения, заблуждения и ереси приписывали вожделению (типичный тому пример — Менендес Пелайо), и Фрай Фелипе де Менесес уверенно заявлял в 1555 году: «Эта наклонность к чувственности не свойственна, на мой взгляд, испанской нации»; но на самом деле все обстоит совершенно иначе, и тогдашние испанцы, как и сегодняшние, уже несли в себе неразрешимый конфликт между плотью и духом. Символом греховности плотских радостей становится образ внешне уродливой Селестины: в Калисто мы находим в зародыше будущий миф о Дон Хуане, который кочует по испанской литературе от Тирсо де Молины до Соррильи, а с XVIII века входит в мировую культуру. Дон Хуан — вовсе не гомосексуалист, который не разгадал самого себя, как утверждал Мараньон; [9] Мараньон, Грегорио де (1887–1960) — испанский критик и эссеист.
он — продукт двух цивилизаций, христианской и мусульманской, и потому — сугубо испанский персонаж. Образы Калисто и Дон Хуана могли возникнуть только в Испании; как и Дон Кихот и антигерои плутовского романа, они суть литературное выражение векового сосуществования испанцев — христиан, иудеев и мусульман, — сосуществования, трагическая развязка которого оставила глубокий отпечаток на испанском характере и продолжает сказываться до сих пор.
Читать дальше