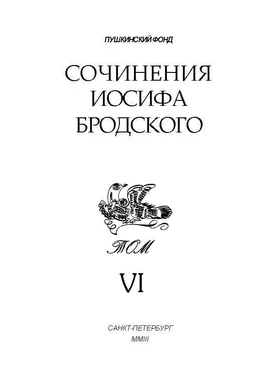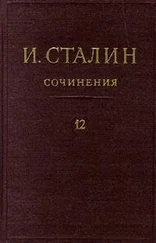Прошлой ночью, лежа в постели, я перечитывал перед сном твои "Оды" и наткнулся на обращение к твоему собрату по перу Руфу Валгию, в котором ты пытаешься убедить его не горевать столь сильно о потере сына (по мнению одних) или возлюбленного (по мнению других). На протяжении нескольких строф ты приводишь примеры, говоря ему, что такой-то потерял одного, а такой-то другого, и затем ты предлагаешь Руфу, чтобы он, в качестве самотерапии, занялся восхвалением новых триумфов Августа. Ты упоминаешь несколько недавних побед, и среди них отторжение простора у скифов.
На самом деле там, вероятно, были гелоны; но это неважно. Странно, я не замечал этой оды раньше. Мой народ — ну, скажем так — не упоминается слишком часто великими поэтами римской античности. Греками — другое дело, поскольку они довольно много общались с нами. Но даже у них мы не слишком в чести. Несколько отрывков у Гомера (из которых Страбон впоследствии изготовил такое!), десяток строк у Эсхила, немногим богаче у Еврипида. В основном, упоминания мимоходом; но кочевники и не заслуживают большего. Из римлян, я раньше думал, только бедный Овидий обращал на нас какое-то внимание; но ведь у него не было выбора. Практически ничего о нас нет у Вергилия, не говоря уже о Катулле или Проперции, не говоря уже о Лукреции. А теперь, смотри-ка, крошка с твоего стола.
Возможно, сказал я себе, если нашего автора как следует поскрести, то я обнаружу упоминание той части света, где нахожусь сейчас. Кто знает, может, он обладал воображением, предвидением. При таком роде занятий это бывает.
Но ты никогда не был провидцем. Переменчивым, непредсказуемым — да, но не провидцем. Посоветовать убитому горем человеку сменить тональность и петь победы цезаря — это ты мог; но вообразить другую землю и другое небо — для этого следует обратиться, я полагаю, к Овидию. Или ждать еще тысячелетие. В целом же вы, латинские поэты, были сильнее в размышлении и рассуждении, нежели в выдумке. Я полагаю потому, что империя и так была достаточно обширной, чтобы еще напрягать воображение.
Итак, я лежал поперек моей неубранной постели в этом невообразимом (для тебя) месте холодной февральской ночью спустя почти две тысячи лет. Единственное, что у меня с тобой было общего, я думаю, — широта и, конечно, томик твоих стихов в русских переводах. В то время когда ты все это писал, у нас, видишь ли, не было языка. Мы даже не были нами; мы были гелоны, геты, будины и т. д.: просто пузырьки в резервуаре генов нашего будущего. Так что две тысячи лет в конечном счете не прошли даром. Теперь мы можем читать тебя на нашем чрезвычайно флективном языке с его знаменитым гуттаперчевым синтаксисом, дивно подходящим для перевода тебе подобных.
Однако я пишу тебе это на языке, с чьим алфавитом ты знаком лучше. Гораздо лучше, следовало бы добавить, чем я. Кириллица лишь озадачила бы тебя еще сильнее, хотя ты, без сомнения, узнал бы греческие литеры. Конечно, расстояние между нами слишком велико, чтобы беспокоиться из-за его увеличения — или пытаться его сократить. Но вид латинских букв, может, послужит тебе некоторым утешением, даже если комбинации их тебя озадачат.
Итак, я лежал на кровати с томиком твоих "Песен". Отопление было включено, но холодная ночь снаружи его одолевала. Живу я здесь в маленьком двухэтажном деревянном доме, и моя спальня — наверху. Глядя на потолок, я почти видел, как просачивается через мансардную крышу холод: нечто вроде антитумана. Никаких зеркал. В определенном возрасте не питаешь интереса к собственному отражению, будь ты в обществе или без, особенно если без. Вот почему я сомневаюсь, что Светоний говорит правду. Хотя, я думаю, ты был вполне сангвиник во всех отношениях. Твоя знаменитая уравновешенность! Вдобавок, хотя Рим находится на той же широте, в нем никогда не бывает так холодно. Пару тысяч лет тому назад климат, возможно, был иным; хотя твои строчки не свидетельствуют об этом. Как бы то ни было, я засыпал.
И я вспомнил красавицу, которую когда-то знал в твоем городе. Она жила в Субуре, в квартирке, изобилующей цветочными горшками, но благоухающей ветхими книжками, заполонившими ее. Книжки были повсюду, но главным образом на полках, доходящих до потолка (потолок, надо сказать, был низкий). Большинство книг принадлежало не ей, а соседке напротив, о которой я много слышал, хотя никогда ее не встречал. Соседкой была старуха, вдова, родившаяся и проведшая всю свою жизнь в Ливии, в Лептис Магна. Она была итальянкой, но еврейского происхождения — а может, евреем был ее муж. Так или иначе, когда он умер и в Ливии стало припекать, старая леди продала дом, упаковала вещи и приехала в Рим. Ее квартира была, вероятно, еще меньше, чем квартира моей нежной подруги, и полным полна отложений, скопившихся за жизнь. Посему две женщины, старая и молодая, заключили соглашение, после которого спальня последней стала напоминать настоящий букинистический магазин. С этим впечатлением не вязалось не столько присутствие кровати, сколько большое зеркало в тяжелой раме, несколько ненадежно прислоненное к шаткой книжной полке прямо против кровати и под таким углом, что всякий раз, когда я или моя нежная подруга хотели подражать тебе, нам приходилось отчаянно вытягивать и выворачивать шеи. В противном случае в зеркале отражались лишь книги. На рассвете оно могло вызвать у вас жутковатое ощущение собственной прозрачности.
Читать дальше