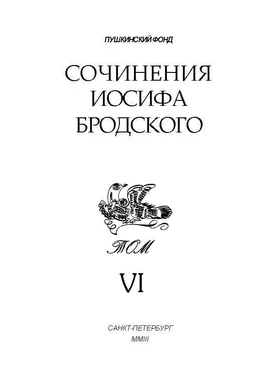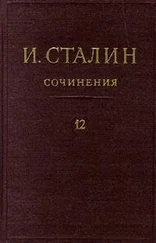"Горящие" — разумеется, принятый эпитет для глаз, однако ни о глазах Орфея, ни, как мы вскоре убедимся, о глазах Эвридики — что было бы наиболее уместно, — ничего подобного не сказано. Более того, это первый эпитет с позитивным оттенком, появляющийся в до сих пор матовом корпусе стихотворения. Так что это прилагательное рождено не стилистической инерцией, хотя остальные строки в описании Гермеса ни в чем не отступают от самых традиционных черт в его изображении:
стройный посох в руке впереди,
крылья легко трепещут у лодыжек…
Интересно в этих двух строках только второе в тексте появление прилагательного "стройный" — может быть, не самый яркий в этом случае выбор, наводящий на мысль, что в период работы над стихотворением это было просто одно из любимых словечек автора. Но ведь ему было двадцать девять лет, и привязанность его к этому эпитету, вероятно, можно понять.
Крылья у лодыжек Гермеса — безусловно, столь же стандартная деталь его облика, как лира у Орфея. Что они "слегка трепещут", говорит о медленной скорости, с которой движется этот бог, тогда как руки Орфея, которые
висели,
тяжелые и сжатые, из падающих складок ткани,
уже не помня про легкую лиру,
ту лиру, которая срослась с его левой рукой,
как вьющаяся роза с веткой оливы
— означают нечто противоположное; скорость, с которой он движется, равно как и место, по которому он движется, исключают использование его инструмента до такой степени, что превращают его в декоративную деталь — виньетку, достойную украсить какой-нибудь классический карниз. Но две строки спустя все это переменится.
XXV
Если иметь в виду вокальные свойства человеческой речи, то самый непонятный аспект — это ее горизонтальность. Идет ли она справа налево или наоборот, все ее средства для передачи многочисленных модуляций тона сводятся к восклицательному и вопросительному знакам. Запятая, точка с запятой, двоеточие, тире, скобки, точка — все эти знаки размечают линейную, а значит, горизонтальную составляющую нашего словесного существования. В результате мы в такой степени свыкаемся с этой формой передачи нашей речи, что в разговоре придаем своим высказываниям определенный психологический или, как минимум, тональный эквивалент горизонтальности, именуя его то уравновешенностью, то логикой. Если вдуматься — добродетель горизонтальна.
Это логично, поскольку ведь такова же и земля под ногами. И все-таки, если говорить о нашей речи, порой можно позавидовать китайским знакам с их вертикальным расположением: наш голос мечется в разных направлениях; или еще иногда хочется пиктограмм, вместо идеограмм. Ибо даже и в нынешней очень поздней фазе нашего победного эволюционного процесса мы испытываем дефицит в средствах передачи на бумаге тональных изменений, сдвигов в логическом ударении и так далее. Графика наших фонетических алфавитов далеко не достаточна; такие типографские трюки, как переход с одной строки на другую или пробелы между словами, не дают полноценной системы нотации и только зря занимают место.
Письменность возникла так поздно не потому, что древние были тугодумы, но из-за предчувствия ее неадекватности человеческой речи. Сила мифов, возможно, связана как раз с их устным и вокальным превосходством над письмом. Всякая запись по определению редуктивна. Письменность, в сущности, это след — я убежден, что так она и началась, — оставленный на песке опасным ли, миролюбивым ли, но направляющимся куда-то существом.
И вот, две тысячи лет спустя (две тысячи шестьсот, точнее говоря, поскольку первое упоминание об Орфее датируется шестым веком до Р. Х.) наш поэт, пользуясь структурно выстроенным стихом — выстроенным именно чтобы подчеркнуть эвфонические (т. е. вокальные) свойства написанных слов и цезур, их разделяющих, — фактически возвращает этот миф к его дописьменным вокальным истокам. С вокальной точки зрения, стихотворение Рильке и древний миф суть одно. Выражаясь точнее, их эвфоническая разность равна нулю. Именно это он и показывает двумя строками позже.
XXVI
Двумя строками позже вводится Эвридика, и происходит вокальный взрыв:
…в левой руке доверенная ему она.
Она — возлюбленная столь, что из одной лиры
родилось больше плача, чем от всех плакальщиц,
что родился из плача целый мир, в котором
всё снова было: леса и долы,
дороги и селенья, поля и потоки и звери,
а вокруг этого мира плача — вращалось,
будто вокруг другой земли, солнце
Читать дальше