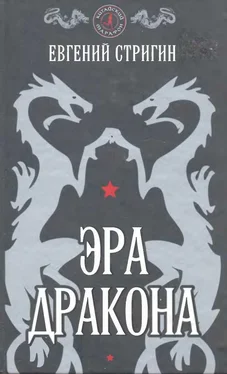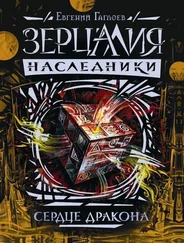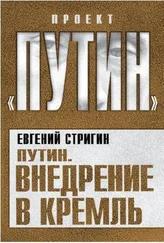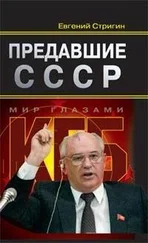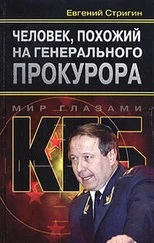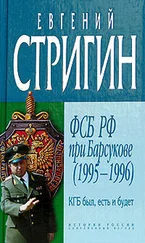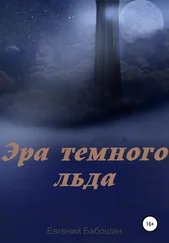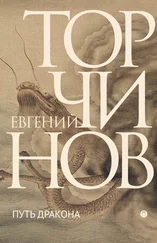В то же время в советской литературе указывалось: «Бактериологическое оружие применялось против СССР и МНР во время спровоцированной войны на Халкин-Голе. В ходе военных действий японскими войсками использовались как боевые средства бактерии брюшного тифа, паратифа, дизентерии путем заражения реки Халкин-Гол» [223] Кошкин А. А. Крах стратегии «спелой хурмы». М.: Мысль, 1988. С. 158.
.
Биологическое (бактериологическое) оружие применялось не только против военных. «Существуют данные о том, что в 1941–1942 гг. в результате бактериологических атак в Китае неоднократно возникали эпидемии чумы. Их жертвами стали сотни людей» [224] Там же.
.
Особый интерес для современной России представляет вопрос о клещевом энцефалите, который причиняет нашей стране существенный вред уже много лет. А зараженные клещи фиксируются уже в европейской части России и даже за ее западными границами.
Известно, что японские военные лаборатории в Маньчжурии проводили также исследования в отношении клещевого энцефалита [225] Сэйити Моримора, Кухня дьявола. М.: Прогресс, 1983 (публикация в Интернете).
. Фиксация фактов заражения на территории Советского Союза клещевым энцефалитом началась чуть позже.
«Эпидемия весенне-летнего клещевого энцефалита была подтверждена и ее комплексное исследование начато на Дальнем Востоке экспедициями Наркомздрава бывшего СССР в 1937–1939 гг. В составе экспедиции вместе с вирусологами и инфекционистами из центра работали местные клиницисты-неврологи…» [226] Аммосов А. Д. Клещевой энцефалит. М.: Кольцово. 2002. с. 3.
«В разгар работ руководитель первой экспедиции профессор Л.А. Зильбер, руководитель отряда А.Д. Шеболтаева и эпидемиолог Т.А. Сафонова были арестованы властями по ложному обвинению, что экспедиция тайно распространяла японский энцефалит на Дальнем Востоке» [227] Аммосов А. Д. Клещевой энцефалит. С. 4.
.
Обратим внимание на термин «японский энцефалит». Это подразумевает, что тогда была уверенность в японском следе клещевого энцефалита. Нельзя не обратить внимание, что распространение клещевого энцефалита хотя и возможно на территории Японии, но только в ее северной, наименее населенной части, которая также лишь сравнительно недавно была включена в состав Японии и еще не рассматривалась тогда как исконно японская территория. В то же время Россия представляла почти идеальное место для распространения клеща, что и происходило (правда, медленно) по территории нашей страны с востока на запад, вплоть до западной границы.
Факт тайной подготовки Японии к применению биологического оружия был подтвержден на Нюрнбергском (1946 год) и Хабаровском (1949 год) судебных процессах [228] Великая Отечественная война 1941–1945. Энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 1985. С. 98, а также: Советская военная энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 1990. Т. 1. С. 397.
.
С 25 по 30 декабря 1949 года в городе Хабаровске состоялся судебный процесс по делу бывших военнослужащих японской армии, обвиняемых в подготовке и применении бактериологического оружия. Дело рассматривалось в открытых судебных заседаниях Военного трибунала Приморского военного округа. Перед судом предстали двенадцать человек, в том числе пять генералов.
Материалы судебного процесса по делу бывших военнослужащих японской армии, обвиняемых в подготовке и применении бактериологического оружия в 1950 году опубликованы Госполитиздатом.
Особо о японском следе клещевого энцефалита как советские, так и российские власти не говорили. Но тут причины могут быть самыми различными.
В то же время значительная часть населения нашей страны готова поверить версии о кознях Японии. Например, в начале 2004 года Стронин О. В., кандидат медицинских наук, начальник медицинского диагностического центра ФГУП «НПО Вирион» сообщал в Интернете о том, что японский след клещевого энцефалита — чрезвычайно распространенное мнение. Ведя прием пострадавших от присасывания клеща, он слышал его, по крайней мере, от сотни человек.
Тема японского следа клещевого энцефалита чрезвычайно актуальна, но ее подробное исследование выходит за рамки данной книги.
Пока лишь самые предварительные выводы:
— известно, что Япония в 30–40 годы была в очень плохих отношении с Советским Союзом. Порой это были вооруженные конфликты, а в августе 1945 года была настоящая, хотя и скоротечная война. Это, а также то, что японские вооруженные силы были слабее, подталкивало Японию к использованию нетрадиционного оружия массового поражения;
Читать дальше