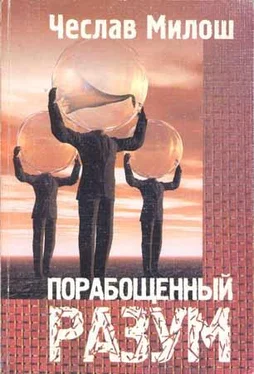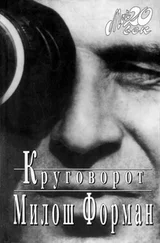Что истории польской литературы принадлежат Анджеевский, Боровский и Галчиньский, вряд ли кто-либо из польских и русских читателей сегодня усомнится. С выходом в Москве однотомника прозы Боровского в 1989-м и двухтомника прозы Анджеевского в 1990-м разговор о них у нас перестал быть голословным, русский томик стихов Галчиньского вышел еще в 1967-м, а с тех пор представление русского читателя о его поэзии расширялось новыми публикациями. Скорее уж кто-то усомнится сейчас, что истории польской литературы принадлежит Путрамент (тоже в свое время у нас переводившийся). Но и в этом случае Милош не ошибся. Особый статус Путрамента, полуписателя-полуполитика, заставляет и сейчас еще с интересом присматриваться к этой фигуре в контексте XX века, когда история польской литературы (да только ли польской!) была в значительной мере политической историей.
Свой «квартет» Милош составил удивительно удачно. Четыре судьбы являют почти все варианты судеб поляков в годы Второй мировой войны: Анджеевский провел годы войны в оккупированной Варшаве, Боровский — сначала в Варшаве, потом в Освенциме и год на Западе, Галчиньский — в немецком лагере для военнопленных и год на Западе, Путрамент — в Советском Союзе. Каждый из четырех прошел к 1945-му свой путь мировоззренческой эволюции. Очень точно подобраны контрастные, взаимодополняющие писательские индивидуальности. Разумеется, памятуя слова Монтескье, мы должны учитывать, что в годы порабощения разума эти четыре характера деформируются, предстают не такими, каковы они есть, а такими, какими их вынуждают быть.
Жизненный и творческий путь Тадеуша Боровского оборвался почти сразу же, едва Милош закончил свою главу о нем. Непосредственным эмоциональным откликом Милоша на самоубийство Боровского в 1951 были два стихотворения — «На смерть Тадеуша Боровского» и «Поэт», включенные Милошем в книгу стихов «Дневной свет», вышедшую в Париже одновременно с «Порабощенным разумом». Эти стихи — уже не памфлет, а плач. Самоубийство Боровского Милош сравнивает в своем стихотворении с самоубийством Маяковского. Впрочем, и в главе «Порабощенного разума» о Бете-Боровском Милош — вопреки жанру и поэтике памфлета — по существу подымает Боровского. Он первый знакомит западного читателя с прозой Боровского, которую переведут на Западе много позже. Высоко оценивает Милош и поэтическое творчество молодого Боровского. А ведь Милошу были тогда известны лишь немногие стихи Боровского; многие другие стихи (к счастью, сохранившиеся и разысканные) публиковались гораздо позже, в том числе совсем недавно, в 1999 вышел томик его не публиковавшихся стихов.
Галчиньский тоже не успел прочесть книгу Милоша. Он скончался в декабре 1953. В творчестве насмешника, «буффона», «шарлатана» Галчиньского Милош обнажает также и скрытую за его смехом «невидимую», трагическую сторону. Ведь Галчиньский в то же время — автор поэмы «Конец света». Но главное и наиболее органичное для Галчиньского — смеховое начало. Насмешник Галчиньский и трагический поэт Милош — антиподы. И своего антипода Галчиньского Милош описывает очень внимательно, точно, без всякой предвзятости.
Для предвзятости, для обиды у Милоша были основания. В 1951 году на «бегство» Милоша откликнулись в печати — обязаны были откликнуться — несколько польских писателей. Был среди них и Галчиньский, который превзошел всех: сочинил целую поэму — «Поэма для изменника», это длинная патриотическая поэма, большие патриотические пассажи которой перемежаются постоянным рефреном: «А ты дезертир, а ты изменник». Милош ни словом не упоминает об этой злосчастной поэме. (Впервые он выскажется о ней в дневнике 1987 года; который в 1990 выйдет отдельной книгой — «Год охотника».)
Но важнее другое: то, как адекватно и, я бы даже сказал, любовно описывает Милош творчество поэта совершенно иного склада, чем он сам. Для описания творчества Галчиньского на редкость уместна концепция карнавальности народной культуры, концепция Бахтина. В 1952 году этой концепции еще не было. Позже польские исследователи Галчиньского могли уже на Бахтина ссылаться и ссылались. А Милош, без помощи этой концепции, пишет, в сущности, то же, что писал бы, вооружась ею.
В главе «Альфа — или Моралист» Милош говорил о своем друге Ежи Анджеевском. С выходом «Порабощенного разума», со всеми его резкостями в адрес «Альфы», их дружба не оборвалась. «Наша дружба, — вспоминал Милош в своей поминальной статье 1983 года, сразу после смерти Анджеевского, — была довольно прочной, способной сохраняться несмотря на трения и споры. Я беспощадно описал Анджеевского в „Порабощенном разуме“, способствуя его пробуждению. Когда после 1956 года он приехал в Париж, он признал мою правоту, и все снова пришло в норму. Он бывал у меня дома в Монжероне, встречались мы и в Латинском квартале за вином…»
Читать дальше