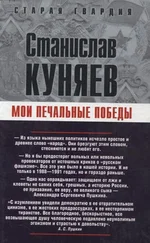В номере одного из лидеров НТС Романа Редлиха нас встретили с плохо скрытым высокомерием и начали поучать, как побежденных:
— Поздно вы, патриоты, спохватились! Надо было раньше возглавить восстание против коммунистов!
Номер выглядел роскошно, блистал зеркалами, шелковой обивкой кресел, красным деревом, хозяин с хозяйкой были, несмотря на наш поздний визит, одеты изысканно — он в костюме с иголочки, в галстуке с золотой заколкой, выбритый, благоухающий дорогим одеколоном, его жена в европейском вечернем туалете, сверкающая кольцами, серьгами.
А тут мы после бессонной ночи на Комсомольском, небритые, в измятых куртках, в изношенных кроссовках, с отчаянием в глазах.
Нет, мы не туда попали, здесь нас не поймут… Отец Александр Киселев, духовник власовской армии, благообразный, аскетического обличья старик с белой бородой, вышел на наш стук в коридор.
— Тише, тише, чада, матушка спит…
Мы отошли в конец коридора к громадному окну, из которого как на ладони был виден собор Василия Блаженного, Спасская башня, брусчатка Васильевского спуска.
Слушая наши негодующие и сбивчивые речи, отец Александр молчал, теребил бороду, опускал глаза. На прощанье сказал:
— Оставьте надежду на Запад. Он не поймет вас и ничем вам, русским патриотам, не поможет. Да храни вас Господь! — и осенил нас крестным знамением.
* * *
К осени 1991 года давление на очаги патриотического сопротивления достигло предела. Опричники и особисты демократии отслеживали каждый наш шаг, разглядывали в лупу каждую статью, каждое стихотворение, публичное выступление, включали все механизмы своей пропагандистской машины, чтобы подавить, обескровить, измотать…
Борьба эта, впрочем, длилась всегда, но особенно бесчестные формы она приняла после августа. Но довести до отчаяния им меня не удавалось, поскольку каждый раз, доходя до предела усталости, я уезжал на пару недель в беломорскую или североуральскую тайгу на охоту и на рыбалку, а возвращался похудевший, надышавшийся таежным воздухом, облученный незакатным северным солнцем, как будто заново рожденный для борьбы.
— Что они могут сделать со мной, эти изможденные от злости демократические крысенята, сидящие в кабинетах, в телестудиях, в приемных своих крестных отцов, когда меня сама мать сыра земля насыщает здоровьем?!
Однако я не знал всей меры их коварства, когда осенью 1991 года высадился из Ан-2 на берег Белого моря в поселке Ручьи. А добираться мне надо было до устья Мегры — на восток еще верст тридцать. Море штормило, и я не мог выехать на моторке. Пришлось полегче одеться и пешком идти вдоль берега. Береговая дуга гигантским изгибом уходила к востоку, и лишь где-то далеко-далеко в дымке на горизонте чуть брезжили очертания мыса; не верилось, что туда можно дойти к вечеру.
Я шел не торопясь то по высокому берегу, круто обрывавшемуся к морю, то по накатному плотному песку, откуда утром сошла большая вода. Каждые час-полтора останавливался в пустых рыбацких избушках — кипятил кружку крепкого чаю, отдыхал, глядя с берега на белую шипящую кромку прибоя, на косяки гусей, которые уже тянулись в синем небе с Канина Носа к югу, на громадные глыбы берега, рухнувшие вниз, оттого что море в конце концов подмыло их.
Вот так и надо упорно, размеренно, рассчитывая силы, идти к цели, не боясь ничего. Пускай она так далеко, что кажется, и дойти до нее невозможно. А ты иди. Видишь: очертания мыса уже темнее, он уже не плавает в тумане, уже видно, что он вырастает из земли… Только не сбейся с шага, не нарушай ритма дыхания, не сбавляя шага, расслабляйся на ходу и береги себя, чтобы всегда прибавить ходу, если понадобится…
Часа через четыре я дошел до Вазицы. Передо мной шумела река, поуже Мегры, но перейти которую было невозможно. Я поднялся чуть выше по течению, увязал обрывками металлического троса в плот три сухих бревна и, пихаясь шестом, начал переправу. Чуть-чуть не доплыл до берега — развалился мой плот, и я с броднями, полными ледяной воды, вылез на песок, снял сапоги, вылил воду, выжал шерстяные носки, попил пригоршней воды из реки и пошел дальше. До Мегры я добрался лишь к вечеру, когда солнце за спиной прикоснулось алым краем к морю. Мыс, который издали казался мне висящим в воздухе, стоял передо мной, как черная гора. От усталости хотелось спать, и в ожидании какой-нибудь попутной рыбацкой лодки я прилег на песок.
Устье. Шум впадающей в море реки. Ветер поет в пустых проржавевших бочках из-под солярки. На откосах черного мыса языки первого снега. Из-под них к морю тянутся ниточки ручейков. На песке бревна, щепа, сучья, куски дерева — все сухое, серебристое, серое, изглаженное волнами, песком, ветром.
Читать дальше