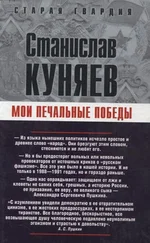Жанна д'Арк из сибирских колодниц,
Каторжанка в вождях, ты из тех,
Что бросались в житейский колодец,
Не успев соразмерить разбег.
Ты из сумерек, социалистка,
Секла свет, как из груды огнив,
Ты рыдала, лицом василиска
Озарив нас и оледенив.
Отвлеченная грохотом стрельбищ,
Оживающих там вдалеке,
Ты огни в отчужденье колеблешь,
Точно улицу вертишь в руке.
И в блуждании хлопьев кутежных
Тот же гордый, уклончивый жест:
Как собой недовольный художник,
Отстраняешься ты от торжеств.
Как поэт, отпылав и отдумав,
Ты рассеянье ищешь в ходьбе,
Ты бежишь не одних толстосумов:
Все ничтожное мерзко тебе.
Это, конечно, лицо эсерки и террористки, но с каким вдохновением Борис Леонидович обессмертил ее в своей революционной поэме! А стихотворение Ярослава Смелякова, который словно бы кистью Петрова-Водкина изобразил свой, более народный, нежели у Пастернака, но не менее величественный женский лик революции:
Сносились мужские ботинки,
Армейское вышло белье,
Но красное пламя косынки
Всегда освещало ее.
Любила она, как отвагу,
Как средство от всех неудач,
Кусочек октябрьского флага —
Осеннего вихря кумач.
Да, у той революции были великие поэты, и не только поэты: и композиторы, и прозаики, и скульпторы, и художники, если вспомнить Мухину, Булгакова, Коненкова, Шолохова, Шостаковича, Петрова-Водкина. В этом смысле ельцинская революция столь же бесплодна, как и гитлеровская. Впрочем, августовскую революцию пытались увековечить в стихах, но поскольку не нашлось у них ни Блока с Есениным и ни Маяковского с Пастернаком, то журнал "Новый мир" в одном из осенних номеров 1991 года напечатал стихи некой Анны Наль, сделавшей попытку превратить фарс в высокую трагедию:
Белый дом в баррикадном
Терновом венце,
и накатом
в предместья
поверх головы
катакомбное "Эхо Москвы".
Девять суток вослед
поминальный пикет
из туннеля — на свет,
как преграда убийцам.
И Давида звезда (! — С. К.) —
словно в пепле гнезда
шестикрылая птица.
Словом, вылупился под косноязычную радость новомировской местечковой музы с благословения главного редактора Сергея Залыгина чудовищный шестикрылый птеродактиль. Эх, Сергей Павлович, Сергей Павлович, большой русский писатель…
* * *
Через неделю после грязных трех дней августа начался чрезвычайный пленум писателей России. Мы заседали на Комсомольском проспекте, когда в здание Союза буквально ворвалась группа юнцов и потребовала к себе "начальство". Вышедшему к ним тогдашнему оргсекретарю СП РСФСР Геннадию Гусеву было сказано буквально следующее: "Мы — 267-й батальон московской национальной гвардии (?! — С. К.)". Затем двери зала распахнулись, и трое политических шпаненков, посланных из префектуры Центрального округа с бумагой за подписью префекта Музыкантского, заявили о том, что Союз писателей России как бы закрывается. Юрий Бондарев тут же бросился к правительственной вертушке звонить в префектуру. Дозвонился. Музыкантский иезуитски согласился с ним, что юридических оснований для закрытия Союза писателей нет, но "есть общественное мнение, что некоторые российские писатели идеологически подготовили выступления путчистов".
Несколько позже мы узнали, чье это было "общественное мнение". Оказалось, что Евгений Евтушенко, захвативший власть в Большом Союзе на Воровского, тут же настрочил мэру Москвы Гавриилу Попову донос, в котором Бондарев, Распутин и Проханов, подписавшие "Слово к народу", назывались "государственными преступниками", заодно потребовав закрытия нашего Союза. А за услугу властям попросил отдать писательский дом на Комсомольском новому секретариату во главе с ним, с Евтушенко.
У самозваных "национал-гвардейцев" оказалась и печать СП СССР, которую надлежало "приложить" к бумажным пломбам на дверях нашего здания. Забавно, что среди пришедших забирать для Евтушенко наш дом был даже какой-то бездарный стихотворец, игравший роль полицейского с особым рвением.
Президиум, где заседали Бондарев, Феликс Кузнецов, Петр Проскурин, Василий Белов, в первые секунды оцепенел, потом в зале начался шум, писатели были разгневаны и растеряны, вскочили со стульев, курили, спорили, кричали, не зная, что делать. Юрий Васильевич Бондарев был тверд и немногословен:
— Я отсюда уйду только в наручниках!
— Не уйдем, — воззвал к народу Геннадий Гусев. — Если нас арестуют — пойдем под арест!
Читать дальше