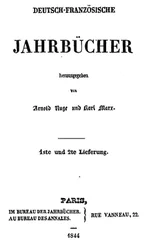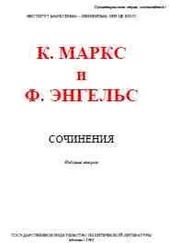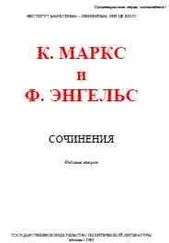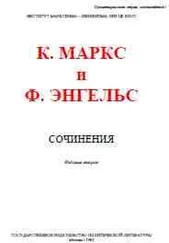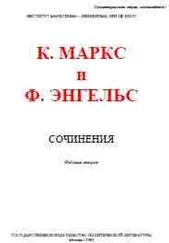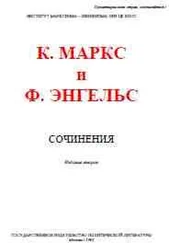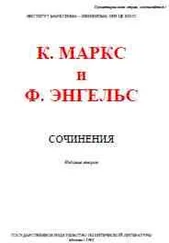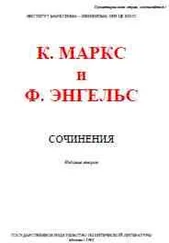Трудно поверить, что темное облако суеверий растет в такое время, когда наука и техника открыли перед населением земли широкие горизонты вселенной. И все же это так. Давно уже перестали удивляться современному возрождению средневековой схоластики, представленной множеством ученых организаций и университетов, потоком книг и статей.
Но суть дела не в этих отдельных черточках, свидетельствующих о движении буржуазной культуры вспять. Поворот к средним векам, давно уже объявленный ближайшей задачей общества такими известными мыслителями, как Жильсон, Кристофер Даусон или Бердяев,- ничто по сравнению с действительным омертвлением всей духовной жизни, благодаря подчинению ее капиталистической системе "услуг". Если в прежние времена честный писатель отстаивал свободу мысли в безнадежной борьбе против денежного мешка, то в наши дни даже роль Дон Кихота для него слишком хороша.
Не в качестве властителя дум, а в качестве маленького человека, специалиста, способного исполнить определенную функцию, стоит он у ворот громадного здания, где совершается процесс духовного сервиса. В этом здании много отдельных комнат, сияющих оригинальной отделкой, но между ними протянуты невидимые крепкие нити, и все эти нити сходятся наверху, где в атмосфере полного равнодушия к содержанию дела, то есть к искусству и науке, восседают действительные властители дум, чья власть состоит не в идеях, а в материальной силе.
Ветераны буржуазной критики марксизма и новобранцы из вчерашних марксистов пишут о росте интеллигенции за счет рабочего класса. Они выводят отсюда возможность контроля со стороны сознательных элементов общества над экономикой и культурой буржуазного общества. На деле происходит обратное дальнейшее подчинение всей области духовного творчества законам материального производства, присущим капитализму.
В экономической и художественной литературе современного Запада можно найти немало примеров, подтверждающих этот факт. Салеризованный, превращенный в служащего или в "надомника" культуры, человек духовного труда повсюду встречает готовые трафареты, или он должен угадывать возможные формы оригинальности, лежащие в русле общего движения этой системы. Даже крупные таланты с трудом находят возможность для независимого слова, и даже критика капитализма входит или, по крайней мере, может войти в стихийный расчет преобладающей общественной силы в качестве необходимой отдушины. Так, говоря словами Маркса, возможности "свободного духовного производства данной общественной формации" (в отличие от "идеологических составных частей господствующего класса") заметно сократились в наши дни.
Все помыслы рядового служителя культуры, подчиненные коммерческой цели или не чуждые ей, направлены на то, чтобы угодить потребителю, но потребитель его услуг, предлагаемых в виде газетных статей, радиопостановок или других развлечений, сам является рабом той системы, которая его обслуживает. Страшен образ современного обывателя, человека-саламандры, созданный художественной литературой. Зовут ли его Бэббит или Тьюлер, заслуживает ли он сожаления или ненависти - этот человек с головы до пят, от галстука до политических мнений и любовных фраз, является продуктом рекламы, радио, кинематографа, этой "фабрики грез", больших газет и всей машины обслуживания, предлагающей ему свой духовный конфекцион.
Это целиком "манипулированное существо", как принято говорить в современной западной социологии. У него нет главного - самого себя. "Жизнь отнята у него различными учреждениями и мероприятиями,- пишет известный немецкий социолог Ганс Фрайер,- или, по крайней мере, она поставляется ему, как прочие патентованные товары. Человека живут. Единственное, что от него требуется,- это чтобы он приспособлялся, и, по возможности, не только внешне, но и внутренне".
Нельзя сказать, чтобы это существо, лишенное центра в самом себе, целиком составленное из внешних влияний (other directed man, по терминологии Дэвида Рисмена), спокойно принимало свою участь. Обыватель до смерти боится всякой идеологии, понимая под этим очередную иллюзию, созданную той или другой манипулирующей силой. Он боится стать "завербованным". От полного доверия ко всякой навязанной фразе он переходит к столь же крайнему скептицизму. Ему кажется, что единственным выходом, достойным человека, является бегство в свою специальность, в свою особую функцию, которую он желает исполнить по всем правилам искусства. Что он делает - работает на мельницу войны или рекламирует негодные пилюли,- не имеет значения. Не говорите ему о содержании его деятельности, ибо самый разговор об этом является в его глазах идеологией, пропагандой, то есть приманкой для дураков. Важны только мастерство, форма, последнее прибежище личной свободы. Такая поза имеет успех. Ее описывает другой западногерманский социолог - фон Шельски под именем "конкретизма".
Читать дальше