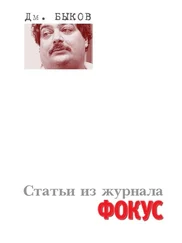Я не говорю уж о том, что любимая актриса Павла Лунгина и Анатолия Васильева, превозносимая сверх всякой меры Наталья Коляканова — достойный представитель все того же разряда: «совсем как настоящая». Она делает все, как положено делать настоящей актрисе. Но тот случай, когда профессионализм только мешает. Тысячу раз прошу прощения. Я никого не хочу обидеть.
А ведь этими бегло намеченными историями картина не ограничивается. Тут есть еще и банщик, тоже гротескный безумец, вовсе уж на окраине действия, — и зачем он тут, понять невозможно. Впрочем, почему невозможно: нормальная попытка заменить качество — количеством, проникновение — пестротой, характер — эскизом. Авось скушается, если всего будет много.
Не станем пропекать и досаливать ни одно из блюд, смешаем все вместе, назовем «ассорти», или «трагифарсом», или «широкой панорамой пореформенной действительности» — и будет совсем как у больших.
В результате даже непрофессиональные актеры у Лунгина фальшивят, не веришь даже настоящей местечковой старухе, которая очень старается, коленом выжимает из зрителя слезу, а слезы нет как нет. Искренен на экране один пейзаж — сухой, выжженный, песчаный, скудный. Одна радость — речка с ивами.
Проблема всех сценариев Островского — умозрительность. Кино работает с реальностью, так что надуманность коллизии обнажается сразу. Причем первотолчок, исток фабулы всегда убедителен: три ветерана, озлобившись на всеобщую ложь и чувство своей ненужности, решили угнать самолет. Хорошо можно снять? Не то слово. Женщина умерла, и выяснилось, что она всю жизнь изменяла мужу, — теперь муж знакомится с любовником. Хорошее кино? Отличное! Двое командировочных везут труп третьего, выдавая его за живого человека: нормальная модель для комедии положений? Идеальная.
В семью тихого интеллигента возвращается с чеченской войны его изувеченный войной сын от случайной связи: ого-го какую картину тут можно завернуть! У Валерия Тодоровского с его уникальной чуткостью к мелким приметам быта, к психологическим обманкам, которыми все мы охотно утешаемся, получились хорошие фильмы «Любовник» и «Мой сводный брат Франкенштейн», но и в «Франкенштейне» некая искусственность торчит, не дает окончательно возрадоваться. Островский был бы (да уже и стал) очень хорошим прозаиком вроде Слаповского, а то и лучше, — но кино не проза, оно гораздо больше похоже на жизнь. Сценаристу требуется иррациональное чувство подлинной, невыдуманной реальности, ощущение ее нерва, а умение разработать увлекательную фабулу тут как раз вторично: у Гребнева в «Июльском дожде», у Рязанцевой в «Крыльях» и «Долгих проводах», у Миндадзе в «Магнитных бурях» фабулы почти нет. И звездных лиц в тех фильмах мало. А кино настоящее, вот поди ж ты.
Кажется, я наконец сформулировал: Островский хорошо чувствует то, что должно быть в реальности. То, чего в ней нет. Запрос — почти всегда точный; ответ повисает в воздухе. Есть запрос на образ народного героя-мстителя, уставшего от унижений? Еще какой! А тоска по всеобщему чувству вины перед нашими мальчиками, подставленными под чеченские пули? Конечно! Наконец, разве не мечтаем мы все вернуть чувство общности, которое было же у нас еще в 80-е?! Со страшной силой мечтаем, ведь без этой общности, трижды проклятой, семижды сброшенной, страны нет, и народа тоже.
На чем бы нам таком сплотиться? На идеологических основаниях больше не можем, на социальных — никак, ибо социальное расслоение нас почти довело до гражданской войны; о национальном лучше не заикаться, потому что национальное у нас равно идеологическому, и как раз отсутствие некоей общей идентификации — что такое вообще русские? что их сплачивает? — порождает фильмы вроде «Своих» (напомню, что сценарий назывался «Русские вопросы»). Остается самое древнее, корневое, бессознательное: род, родня. Но это стихия темная и опасная, чуждая всяким представлениям о морали — как любая архаика; об этом первой написала Виктория Белопольская в своей замечательной статье о «Брате». Все разрушено до основания, осталась чистая, темная, слепая власть инстинкта: ты мне брат, а ты — не брат. Ты мне сестра, поэтому я тебя спасу. Ты мне мама, ты — папа, вы мне — свои. Мы родственники. И это в конечном итоге окажется сильнее всех разделений.
Я не говорю уж о самой сомнительности посыла: архаика — весьма сомнительное спасение, весь христианский опыт человечества в том и заключается, чтобы уйти от нее как можно дальше и сплотиться на новых основаниях. Порвать с отцом, матерью, братом — и пойти за верой. Разуверившись во всех верах, несчастное русское сознание ринулось назад — в архаическое, родовое, душное, отвратительное, нерассуждающее. В пространство, где человека любят за родственность, а не за добродетели или сходство с собою.
Читать дальше