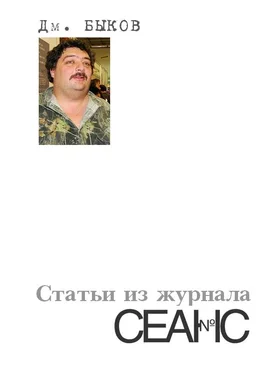Можно ли говорить об амплуа в современном кинематографе, и если да, то о каких? Если да, то какие актёры, на Ваш взгляд, имеют чётко выраженное амплуа?
— Амплуа стерлись, превратились в социальные функции: как-то — родина-мать, жена нового русского, браток, добрый спецназовец, надежный военный. И немногие другие. Социальные функции приросли к лицам этих актеров и заменили их. Актеры утратили лицо и приобрели профессию (это точно уловил Чухрай в «Водителе для Веры»: там на наших глазах происходит обратный процесс — социальная функция превращается в человеческое лицо).
Можно ли говорить сегодня о новой актерской волне? Есть ли актёры, которые открыли для Вас что-то новое в молодом поколении?
— Есть новая актерская волна. Но у этого явления вовсе не тот смысл, который мы привыкли вкладывать. Эта волна не означает прихода новых талантов, новых индивидуальностей — напротив, воплощает мобильность, безликость, идеальную приспосабляемость. Это волна винтиков, деталек конструктора, из которых можно складывать сериал любого жанра. Востребованный актер (я говорю прежде всего о сериалах, именно в сериалах они в основном и работают) — это человек без лица, социальная функция в чистом виде.
Актеры. Нереализованный потенциал
Кто из актеров мог бы стать таковым, но выпал из поля зрения режиссеров, не реализовав свой потенциал?
— Геннадий Назаров — из-за болезни, но теперь слава Богу, возвращается к работе. Владимир Машков — актер с великолепными возможностями, но все свелось к режиссерским штампам. Столяров из «Табакерки» — после «Дня рождения буржуя» его нельзя всерьез воспринимать. Виктор Гвоздицкий. Как ни странно, Олег Меньшиков — но, возможно, это мое субъективное мнение.
Прокат. Ценовая политика кинотеатров
Считаете ли Вы современные цены на билеты адекватными возможностям зрителей и потребностям кинотеатров?
— Нет, конечно. Павел Чухрай абсолютно прав: билеты должны стоить столько, чтобы их могла купить половина населения страны.
№ 19/20, декабрь 2004 года
Самое интересное в кино, когда в нем есть приключения жанра. Например: началось как триллер, перешло в мелодраму, оттуда в комедию, в пародию, а закончилось как мистерия. Но в нашем инфантильном кинематографе и один-то жанр выдерживают с трудом. Павел Чухрай — человек немолодой и профессионал крепкий. Его фильм — антология жанров, приемов и мотивов кинематографа шестидесятых: начинается как кино большого стиля, прыгает в мелодраму, а заканчивается как трагедия. И тут уж плевать на все сюжетные натяжки. Сопереживаешь? Скажи спасибо.
Главное, однако, не в этом, а в теме. В том, как человек выпадает из своей социальной роли и чем он за это расплачивается. По Чухраю — с этого и начинается интересное: с отказа от идентификации. Сюжет так построен, что проститься с нишей приходится каждому: взбалмошной девочке из золотой молодежи, правильному детдомовскому мальчику с сознанием законченного конформиста, старику-генералу с абсолютно советской готовностью переступать через всех. Там, где актер выпрастывается из роли, выпадает из всех условий игры и начинает действовать в соответствии с личными представлениями — происходит прорыв к человечности. И этого-то прорыва не простила «Водителю» снобствующая критика. Фильм понравился всем, кого интересуют живые люди, и вызвал непропорционально бурное негодование у всех, кому нравится играть в игры. Вероятно, лучшая режиссерская работа 2004 года.
Мой сводный брат Франкенштейн
Валерия Тодоровского всегда подводит ум. Говорят, он режиссеру не нужен. «Мой сводный брат Франкенштейн» — исключительно умное кино, и за этот счет оно сильно проигрывает в изобразительной силе, эмоциональности, темпераменте… Но как зеркало нашего анемичного времени оно опять-таки бесценно — как бесценны для историка все полуудачи (настоящие удачи ценны только для искусства, о времени они сообщают гораздо меньше, чем о своем создателе).
Сценарии Геннадия Островского всегда легко пересказывать. Иногда думаешь: «Вот бы это снять!» — а когда снимают, вылезают и умозрительность, и плоскость. На уровне фабулы, реплик, деталей — множество попаданий в нерв; не хватает отваги на какое-то последнее приближение к материалу. Но приблизиться к нему по-настоящему — значит нарушить слишком многие конвенции, а Тодоровский всегда снимает кино конвенциональное. Чтобы и вовремя, и в тему, и в Европе понравилось, и самому не стыдно. В хорошем кино какое-то одно из этих условий всегда не соблюдается.
Читать дальше