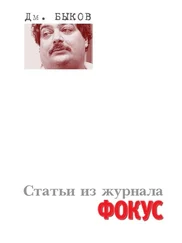Дело хорошее. Я, правда, не думаю, что попадание будет стопроцентным, — в конце концов, даже цвета воспринимаются двумя людьми неодинаково, что уж говорить о такой тонкой материи, как запах… Блок считал, что девятисотые годы вначале были розовыми, а потом стали лиловыми; Белому они виделись сначала багряными, а потом типа золото в лазури… Однако запах первого поцелуя на чертовом колесе в парке культуры и отдыха имени Горького (Москва) я, пожалуй, разложил бы на составляющие: запах дешевеньких духов, которыми пользовались наши девушки («Клима» — это был потолок, они редко встречались, чаще — какая-нибудь «Ночная фиалка»), запах тополей — дело ведь происходит где-нибудь в мае, и немного еще пахнет водой и тиной от прудика внизу, и с прудика доносится визг и стук — катамараны сталкиваются с лодками… Что это были бы за освежители воздуха, вобравшие в себя главные запахи жизни? «Запах сентябрьских кленовых листьев по дороге из школы через сквер на улице Дружбы, Москва» (хорошо бы с шуршанием. Как они шуршали!). «Первая после зимы поездка на дачу на излете эпохи застоя» — с вкраплениями сосисок и картошки на свежем воздухе. «Первая ночь с любимой после страшного количества бухла в гостях у друга» — помнится, пили калгановую настойку, оказавшуюся сильным слабительным. Запах калгановой настойки, что сымитирует тебя?!
Японцы, как всегда, мудры — зря, что ли, они впереди планеты всей в смысле технологий? От жизни остаются не свершения, не тома, не политика (которая вся сводится к повторениям давно известных ситуаций), а вот именно запахи. Страшно, конечно, если нечего вспомнить, кроме запаха шеи официантки в портовом кабаке. Никогда не нюхал портовых официанток. Но вот шапка ребенка, вернувшегося с мороза… или разгоряченная дочь, прибежавшая со свидания и пахнущая духами, легким алкоголем и чужим табаком… хорошо, подчеркиваю, если чужим… Нет, что вы ни говорите, а жизнь все-таки состоялась. От всего Пруста остался один вкус печенья, размоченного в липовом чае, — но это, как выясняется, не так мало. Кто там сейчас помнит злоключения Альбертины и его метания по этому поводу? А липовый чай с печеньем — это навеки.
С Новым годом, господа. Нет никаких итогов уходящего года — ушел, и ладно, и спасибо за все, и дай Бог, чтобы следующий был не хуже. Но вот запах искусственной елки, доставаемой с антресолей, и мандаринов (куда без мандаринов?!), и хлопушечного пороха, и студня, и духов, естественно, потому что какой праздник без женщины… все это, в общем, и есть смысл. Поздравляю всех с возвращением самого эфемерного запаха и самого грустного праздника. Подозреваю, что так пахнет само время — советским шампанским с легким оттенком дрожжей, духами, порохом; и морозным ветром из форточки, открываемой ровно в полночь, чтобы выпустить все старые запахи и впустить новые.
20 декабря 2005 года
№ 395, 19 декабря 2005 года
Когда некоей вещи очень боятся, ее избегают называть по имени, чтобы она не появилась.
Известие о переименовании Грозного (предположительно — в Ахмадкалу) вызвало у российской молодежи неоднозначную и непредсказуемую реакцию. Говорю именно о молодежи, поскольку передачу на эту тему вел вместе со своими студентами на радио «Юность». Думал, что идея сделать из чеченской столицы город-мемориал Ахмада Кадырова вызовет понятную иронию в наименее гипнабельной и наиболее веселой прослойке российского общества. Ничего похожего: все понимают, что происходящее закономерно.
«А как вы сами относитесь к переименованию Сталинграда в Волгоград? — спрашивает меня один тихий ядовитый мальчик. — Оно вам нравится, наверное?»
Что тут скажешь? Не нравится. Переименование Царицына в Сталинград — холуйство. Переименование Сталинграда в Волгоград — тоже холуйство. Пожелание отдельных персонажей переименовать Волгоград обратно в Сталинград — холуйство в квадрате.
И тут я понимаю, что мне на самом деле не нравится. Дело не в Ахмаде Кадырове, к которому я отношусь в высшей степени неоднозначно. Дело в принципе. В языческом принципе, который, кстати, сохранился и в иудаизме: когда ребенок заболевает, ему меняют имя, чтобы отпугнуть демонов. Когда некоей вещи очень боятся, ее избегают называть по имени, чтобы она не появилась. Язычество, да и иудаизм, — в отличие от храброго, безбашенного христианства, слишком даже любящего называть вещи своими именами, — очень осторожно работают с реальностью. Они меняют не ее, а свое восприятие этой реальности. Если вслух сказать «медведь», придет очень страшный зверь. Поэтому ему придумывают кучу эвфемистических названий — Михайло Потапыч, Толстолапый, еще какие-то… Я слышал, что и сравнительно невинное обозначение «медведь» — подумаешь, мед ведает, что страшного? — эвфемизм не сохранившегося, очень страшного и настоящего имени главного владыки русского леса. Чистое язычество, зависящее от ритуалов, имен, условностей — и никак не желающее принять реальность в чистом виде.
Читать дальше