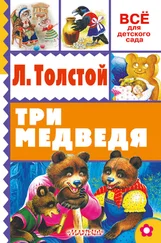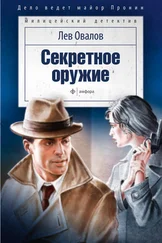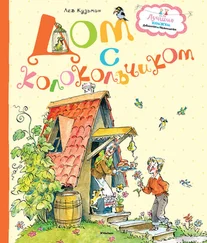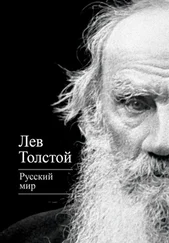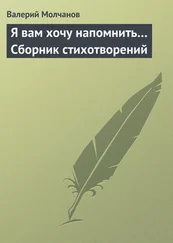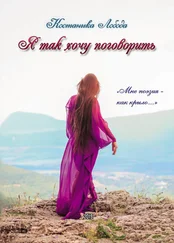Понятно, что писатель должен обеими руками держать вожжи: и о занимательности с выразительностью заботиться, и о «жизненной актуальности», но редко у кого при этом выходит, чтобы лошадь бежала ровно.
Видимо, сложность жизненного материала и литературная сложность находятся если и не в конфликте, то как минимум в противоречивых отношениях. Значительные жизненные обстоятельства в соединении с избыточной выразительностью мельчают и опошляются, возникает «литературная неудача». То есть если нужно описать состояние, охватывающее субъекта при виде раздавленной башмаком вишнёвой косточки, тут языка нужно «побольше». Если же речь идёт о таких вещах, как смерть или рождение, стилистическое усилие всё только испортит.
Выход? Не писать о жизни и смерти. Писать о «косточках». А если и затрагивать глубинные слои бытия, то не грубо напрямую, а через «косточки» опосредованно.
Существует целое литературное направление, следующее этому правилу. У него есть свои вожди. Например, Набоков. Почему в его творчестве не оставила заметного следа Мировая война? Да потому, что эта тема не отвечала характеру его дарования.
Точка зрения на мир Набокова (или, например, Бродского) – это взгляд ребёнка, втиснутого, как призывник в военную форму, во взрослые сюртук и шляпу и выпущенного «без няни гулять по улицам». Подобно всякому ребёнку, они демонстрируют свежий, незамыленный взгляд на мир и одновременно с этим не стремятся отличать его сущностные проявления от поверхностных. Отсюда их темы: «скука» жизни, но не тяжесть её, влюблённость, но не семья. Отсюда же усложнённость их языка.
Говорить затейливо – прерогатива юности. В юности все говорят затейливо. Ощупывая языком нёбо, ищут пределы своих возможностей (надеются не найти). Говорить просто – прерогатива зрелости. Если в юности говорят, например: «Не соблаговолите ли вы, сударь, передать мне сие достойнейшее изделие нашей свинцово-мерзостно-печатной промышленности, пекущейся о санитарно-гигиеническом состоянии моего черепного мозга», – то в зрелости в этом случае говорят «дай газету».
«Юность» и «зрелость» – не показатели опыта. Это жанры. В жанре «детско-юношеской» литературы работали, например, Камю, Сартр, Кортасар. Отсюда такое качество их героев, как «виктимность»: с ними постоянно случаются неприятности, как с гуляющими в одиночку детьми. Мир загадочен; что-то происходит, а как себя вести, непонятно: взрослого, который бы научил, «направил в колею», нет. Да, «колея» – это замыленность, но именно замыленность взгляда (отсутствие воображения) высвобождает энергию для действия. (И герои Набокова «не умеют жить», и лирический герой Бродского: «За рубашкой в комод полезешь, и день потерян…»)
Парадокс в том, что именно «литература вишнёвых косточек» стала считаться в XX веке «интеллектуальной». Вероятно, потому, что взрослому занятнее истина, глаголящая устами младенца. И наоборот, детская литература (действительно детская, без кавычек) наследует традициям литературы XIX века: сюжетность, социальность, расписанный по ролям (то есть по персонажам) конфликт, зло налево, добро направо, мудрость жизни посередине. Взрослые и дети поменялись местами.
В сухом остатке имеем вывод: чем больше в произведении «литературы», тем меньше «жизни». Чем больше булок, тем меньше пшеницы, хотя и то, и другое – хлеб. «Что-то пахари в загоне, что-то пекари в почёте», совсем уж по-научному говоря.
Лично я за угнетённых всегда. А вы?
В чёрно-белых советских фильмах (пожалуй, единственное место на свете, где можно жить) молодые герои среди прочего любили порассуждать про Печорина, подлец или не подлец, или про Наташу Ростову – самка или не самка. Я в своей юности, пришедшейся на фильмы «АССА» и «Авария – дочь мента», этого уже не застал, только читал в книжках. У нас уже по-другому было, всё больше про группу «Дюран-Дюран». А классику любили заочно. То есть в «анкете друзей» в графе «любимые писатели» всё ещё писали «Пушкин, Достоевский», но читать уже не читали: журналы заграничные появились – фотографии посмотрел и сыт.
Так что никакого особого влияния на моё поколение литература не оказала. Без неё мы зарабатывали «свой первый миллион» на польских коньяках и товарно-сырьевых биржах, без неё обзаводились депутатскими значками и секретаршами, без неё обдумывали План Путина и всякое другое житьё. Если что-то, написанное буквами, в нас и было заложено, то только детские книжки. Любой читатель – «родом из детства», а мы особенно: наш мир детских литературных впечатлений остался почти свободен от последующих наслоений взрослой литературы. Детский опыт самый яркий, самый устойчивый.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу

![Лев Стекольников - Кладоискатель ABC [Сборник фантастических и приключенческих произведений]](/books/24907/lev-stekolnikov-kladoiskatel-abc-sbornik-fantas-thumb.webp)
![Лев Давыдычев - Мой знакомый воробей [сборник]](/books/33967/lev-davydychev-moj-znakomyj-vorobej-sbornik-thumb.webp)