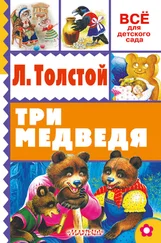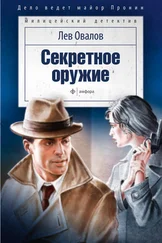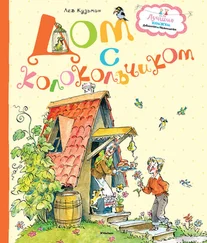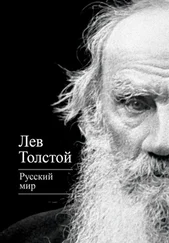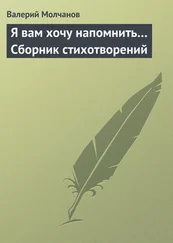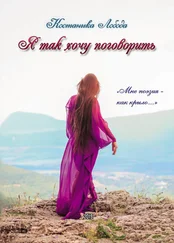Рим пал, потому что лишился своей религии, имманентной идее «земного царства». Вечный город перестал быть вечным, утратив ощущение вечности. А шумные «террористические» акции варваров были лишь симптомами его духовной болезни.
Постинтеллектуализм и Розанов. И постинтеллектуализм
Американский художник Жан-Мишель Баскья (Basquiat) всемирно прославил себя тем, что перерисовывал на холсты нью-йоркские граффити. Так он адаптировал к салонному восприятию «грязную, сырую» культуру хип-хопа.
Жутко прославился.
А разве не честнее было бы взять уже готовый забор да и поместить его целиком в музей?
Такие практики, впрочем, тоже существовали. Вот хоть пресловутый писсуар Марселя Дюшана. Или вот наш Илья Кабаков выставлял в качестве произведения изобразительного искусства противопожарный щит с ведром и лопатой. А постструктуралисты Тео Д’Ан и Ван Ден Хейвель обосновали всё это дело теоретически – в понятиях «найденной вещи» и «украденного объекта». Это когда (допустим) Дмитрий Александрович Пригов не сочиняет из головы про своего «милицанера», а находит в газете частных объявлений красивое, смешное частное объявление и публикует его заново, уже в качестве эстетически значимого текста.
Ошибочно думать, что «украденный объект» придумали постмодернисты. Еще Василий Васильевич Розанов писал в одна тысяча девятьсот двенадцатом, что ли, году: «Почтмейстер, заглядывавший в частные письма („Ревизор“), был хорошего литературного вкуса человек. (…) Читая иногда письма прислуге, я бывал поражен красками народного говора, народной души, народного мировоззрения и быта. И думал: „Да это – литература, прекраснейшая литература“. Вместо „ерунды в повестях“ выбросить бы из журналов эту новейшую беллетристику и вместо нее…»
Фамилия почтмейстера была Шпекин.
Как часто, гуляя по городу, видишь вдруг какую-нибудь белёную стену с потеками сырости и наброшенной небрежно тенью от липы и думаешь: «Да, это искусство, это прекраснейшее искусство, и человеку с его мелким честолюбивым желанием „найти“, присвоить и подписаться делать тут уже совершенно нечего…» Говорят, когда у Мориса Утрилло спросили, что бы он взял с собой на память о Париже, отправляясь жить на необитаемый остров, тот ответил: «Кусок штукатурки».
Возможно ли соревноваться с Творцом в творении? Приблизительно к XV веку художники сочли, что возможно. Но именно тогда, в Возрождение, с художниками случилась подмена: думая, что подражают Природе, они подражали другим художникам – мастерам античности. С тех пор искусство замкнулось на себе. Если ещё в Средние века оно было так или иначе ориентированно вовне, на Бога (служило ритуальным целям, как правило), то с тех пор, как во главу искусства встала идея созерцательности, его зеркало перестало отражать что-либо, кроме себя.
С началом Нового времени искусство превратилось в процесс. Каждая новая генерация художников стала мыслить себя в контексте опыта предшественников: опровергать их либо наоборот – следовать их «традиции». Искусство оказалось заперто между «старым» и «новым», между фантомами прошлого и будущего (на самом деле прошлого и будущего нет – есть только то, что мы об этом воображаем). Искусство попалось на приманку прогресса: у него появилась цель («совершенство», например), но ведь именно цель задаёт процессу предел… И вот недавно этот предел был достигнут. К середине прошлого века в искусстве Нового времени оформилась ситуация «трансавангарда»: когда ничего «нового» в области формы придумать больше невозможно, остается лишь возможность а) цитирования и б) интерпретации. Впоследствии искусство интерпретации стало называться «постмодернизм», а искусство цитирования – «салон».
Баскья – это «салон». Кабаков – «постмодернизм», поскольку он много и охотно говорил по поводу своих «жестов» (даже пресловутый пожарный щит был украшен отпечатанными на машинке, поясняющими смысл «жеста» буковками). Волнует, однако, другое. Вот сняли мы со стены прекрасный пожарный щит. Вот перенесли его в музей, оторвав от корней, изменив его «контекст». Разве не погубили мы тем самым его? Разве не изменили «объект», сделав его «украденным»?
Как можно говорить о том, о чем следует молчать? Ответ: либо никак, либо – врать. Покамест все врут. Врёт брадатый писатель, когда пишет: «Я шла по улице, в бока впился корсет». Врёт бритый политик, когда говорит: «Мы, патриоты России, ожидаем увеличения ВВП минимум в два раза». Врёт обыватель, включающий телевизор со словами: «Ну-ка, ну-ка, посмотрим, что там в мире происходит…» Если бы его интересовало то, что происходит в мире, он бы смотрел не телевизор, а в окно. Там стоит забор и молчит.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу

![Лев Стекольников - Кладоискатель ABC [Сборник фантастических и приключенческих произведений]](/books/24907/lev-stekolnikov-kladoiskatel-abc-sbornik-fantas-thumb.webp)
![Лев Давыдычев - Мой знакомый воробей [сборник]](/books/33967/lev-davydychev-moj-znakomyj-vorobej-sbornik-thumb.webp)