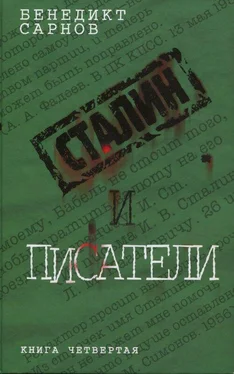Да и у Слуцкого, который кончил войну майором, тоже был другой, не тот, что у Симонова, военный опыт.
Но вот как коснулся этой темы и как решил ее другой поэт, военный опыт которого был скорее сродни симоновскому.
Читая опубликованные недавно «Рабочие тетради» А.Т. Твардовского, я наткнулся там на такую заготовку к «Теркину на том свете»:
► ...Встреча Теркина на том свете с Верховным
(— Умер за меня?
— Нет, товарищ Сталин. За себя скорее.
— Но ведь кричал: «За Родину, за Сталина»?
— Как сказать, кричал больше матом.)
(Знамя. 2000, № 7. Стр. 113).
Так этот замысел блеснул ему впервые. На следующей же странице «Рабочих тетрадей» он получил некоторое развитие. Родилось четверостишие:
Уж кому-кому не знать,
Как не нам, солдатам,
Что ходить случалось в бой
Чаще — просто — с матом.
Спустя еще несколько страниц на свет явился уже целый стихотворный отрывок, в который отлился этот первоначальный набросок:
Тот, кто службе жизнь твою
Придал безвозмездно,
За кого ты пал в бою,
Как тебе известно.
Теркин вскинул бровь и вкось
Поглядел вполвзгляда
И устало молвил:
Брось, Я прошу, не надо.
— Почему же? А печать?
Не забыл, вояка,
Что ты должен был кричать,
Как ходил в атаку?
— Знаешь, лучше умолчим,
Лучше без огласки.
На том свете нет причин
Для такой подкраски.
Нам ли, друг, не знать с тобой,
Грамотные оба,
Что в бою, — на то он бой —
Слов подбор особый.
И вступали там в права,
Вот как были кстати,
Чаще прочих те слова,
Что не для печати.
На том свете и в самом деле уже нет причин врать, приукрашивать, подкрашивать реальность. Но, видать, остаются еще причины, чтобы кой о чем умолчать, кое-что до поры не предавать огласке.
По этой ли причине или по другой какой, но в окончательном тексте «Теркина на том свете» разговор этот выглядит гораздо бледнее, даже, я бы сказал, туманнее, чем в первоначальном своем виде:
— Тот, кто в этот комбинат
Нас послал с тобою.
С чьим ты именем, солдат,
Пал на поле боя.
Сам не помнишь? Так печать
Донесет до внуков,
Что ты должен был кричать.
Встав с гранатой. Ну-ка?
— Без печати нам с тобой
Знато-перезнато,
Что в бою — на то он бой —
Лишних слов не надо;
Что вступают там в права
И бывают кстати
Больше прочих те слова,
Что не для печати...
Даже и на том свете не решается герой Твардовского (или сам автор не разрешает ему, или его — автора — «внутренний редактор») сказать то, что ему хотелось, с той прямотой, с какой он говорил об этом в первом авторском замысле. Тут говорит он это не в глаза самому Сталину, власть которого распространяется и на тот свет, хотя в описываемые времена он вроде еще жив (жив, но в то же время как бы и мертв — поистине жуткий образ), — а всего лишь фронтовому другу, который служит ему путеводителем по «тому свету». Да и говорит не так прямо, как это сперва было замыслено автором, а довольно-таки уклончиво.
Но даже и из этого уклончивого ответа ясно, что ТЕ слова, которые «печать донесет до внуков», он, солдат, не кричал, а только лишь должен былих кричать. В бою, где — на то он бой — «лишних слов не надо», кричал совсем другие. Стало быть, эти, предписанные ему, как раз и были там лишними.
Да, первоначальный свой замысел Твардовский слегка подпортил. Во всяком случае, ослабил. Но жизненной правде он не изменил.
А вот еще одна история на эту тему.
Ее рассказал мне Алексей Иванович Пантелеев — автор (точнее — один из авторов) знаменитой в 20-е годы «Республики Шкид».
В 1943 году он был отозван из армии в Военный отдел ЦК ВЛКСМ и получил там задание: написать для «Комсомольской правды» очерк о подвиге Александра Матросова.
Очерк писался, что называется, по горячим следам. Со дня гибели героя прошло всего несколько месяцев. Алексей Иванович поехал в часть, где служил Саша Матросов, расспросил его однополчан, друзей, бывших свидетелями его подвига. Работал он над очерком с искренним интересом: Матросов, как оказалось, был бывший беспризорный, и автору «Республики Шкид» судьба парня показалась особенно близка.
Тут надо сказать, что Алексей Иванович был писатель скрупулезно честный, и очерк свой хотел написать (и написал) не то чтобы без вранья (это уж само собой), но даже и без всякой патетики, без котурнов, без всякого романтического пафоса. Он хотел рассказать о том, что произошло, так, как это было на самом деле. (Как выразился один мальчик, когда его спросили о стиле другого пантелеевского рассказа: «Стиль такой, как было».)
Читать дальше