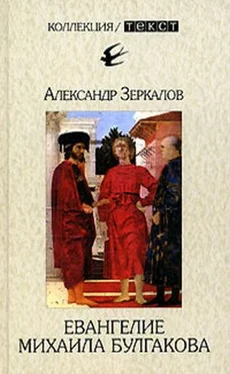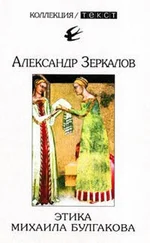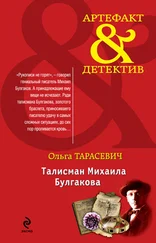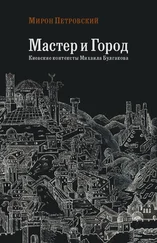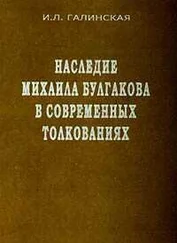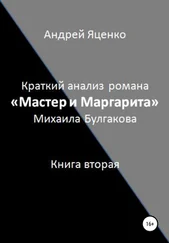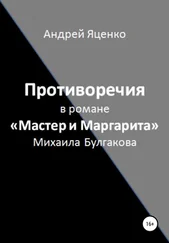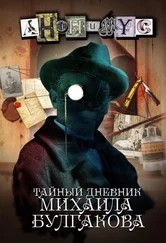Повторяю, мне не дано знать, что хотел сказать Булгаков. Но в его речи слышится общая мысль: двухтысячелетняя христианская культура есть основа современной европейской культуры. Это — несомненный трюизм. Но в России 30-х годов, когда ломка традиций достигла высшей точки, приходилось напоминать банальные истины. Булгаков и напоминал, что мир литературы создался в христианской традиции, хороша она или дурна. Что она явно или незримо присутствует в любом произведении, будь то роман Гете или поэма Бездомного. Так же как в действиях и мыслях человека всегда присутствуют дом его детства, родной язык, добрая или злая рука матери. Масштабы этого присутствия очень трудно вообразить. Традиция всегда мимикрична, она сама творит свой фон и с ним сливается. Иногда о ней стараются забыть, как о детских пороках; от нее стараются отвернуться, ибо она родила больше ненависти, чем взаимопонимания. Каждый человек и каждый писатель видит лишь малую часть картины; как целое она живет только в мире литературы.
Этические концепции «Мастера и Маргариты» еще ждут своего исследования. Здесь был изложен лишь конспект; вернее — личное и далеко не везде рассудочное мнение, основанное, может быть, на эмоциональном отношении к роману. И, заканчивая анализ, я остро ощущаю свое бессилие перед булгаковским талантом. Словно чувствую, что Булгаков заранее потешался над исследователями и над излюбленным ими дедуктивным методом, когда строил рассказ вокруг самого неисторического из Евангелий и самого логически противоречивого из евангельских сюжетов — суда Понтия Пилата над Иисусом Христом.
Рассказ о Пилате не поддается аналитическому давлению, его невозможно свести к односторонней концепции, будь то религиозная или антицерковная. Он в своей мере согласуется с обеими и в той же своей мере противоречит им, ибо мера у него одна — неприятие духовного насилия. Булгаков отказывается от христианского канона постольку и в той степени, в которой канон императивен. Он отвергает непримиримость как метод идеологического управления людьми.
Важной итоговой оценкой я считаю то, что поэтика вставного рассказа организована как современный вариант евангельской поэтики, вариант, развивающий полифонический строй первоисточника. Но еще более важным представляется парадоксальный факт: при всем многозвучии произведения — и взятого отдельно, и вместе с романом — его этическая концепция очерчена абсолютно ясно, заметна и понятна каждому читателю и ни в каких комментариях не нуждается.
Полифоническая щедрость в соединении со сквозной этической темой (причем темой древней и традиционной) обеспечивает, на мой взгляд, редкостную сохранность «Мастера и Маргариты». Злободневный аспект, почти неразличимый за прошедшими бурными годами, нисколько не ослабил произведение. Публицистика не пережила своего времени, но тема секиры, лежащей у корней начетнического древа, оказалась неожиданно близкой сегодняшним веяниям.
Очевидно, нет нужды лишний раз комментировать историческую эрудицию и проницательность Булгакова. Он был первоклассным социальным мыслителем, свободно пользующимся историко-эволюционным методом. Вместе эти качества позволили ему создать социологическую ретроспекцию Иудеи, восстановить прошлое — в расчете на понимание будущего читателя.
См.: Флавий. Иудейские древности (в дальнейшем — Древности), XVIII. 4.1.
Б. Даннэм. Герои и еретики. М., 1967. С. 67–68.
Древности, XVIII. 3.3.
Цит. по: М. Кубланов. Возникновение христианства. М., 1974.
Тацит. Анналы, XV. 44.
Древности, XX. 9.1.
Древности, XVIII. 3.1.
См.: Филон. Посольство к Гаю, 38.
Древности, XVIII. 3.2.
Цит. по: Флавий. Иудейская война (в дальнейшем — Иудейская война).
Древности, XVIII. 4.1.
См. там же, XVIII. 4.3.
Талмуд. Мишна и Тосефта. СПб., изд-во Сойкина (в дальнейшем — Талмуд). Тос. Хулл., II, 21.
Эта трактовка принадлежит советскому христологу И. А. Крывелеву, стоящему практически на берлиозовских позициях. Другие советские исследователи, И. Д. Амусин и С. С. Аверинцев, полагают, что Га-Ноцри переводится как «Из Назарета». Мне импонирует мысль, что Булгаков применил первую трактовку — «изгой»… Впрочем, здесь более интересно характерное смещение трактовок под нажимом идеологии. Об этом см. главу 34.
Читать дальше