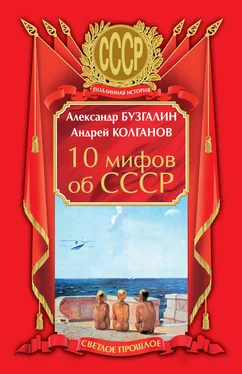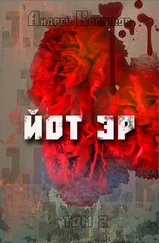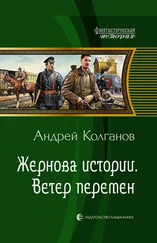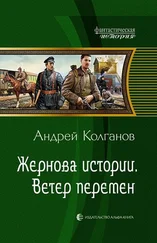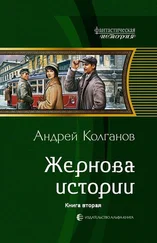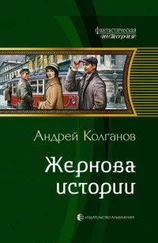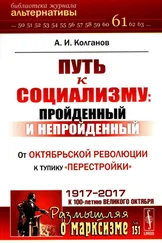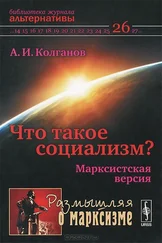Другие, отмечая противоречия, связанные с известным обособлением работ колхозов и МТС, предлагали для устранения возникающих при этом проблем составлять из МТС и обслуживаемых ею колхозов единый хозяйственный комбинат с общим планом [169]. Однако эта идея не была реализована ни в какой форме, и конфликты на почве взаимоотношений МТС и колхозов долгое время оставались больным местом аграрной экономики.
Наиболее глубокие теоретические разногласия, получившие впоследствии весьма болезненное практическое воплощение, касались оценки природы сельскохозяйственной кооперации. Прекратилось обсуждение вопроса о том, социалистической ли является кооперация в обращении, и была поднята проблема социальной природы производственной кооперации. Взгляды Н. И. Бухарина, отстаивавшего в полемике с Е. А. Преображенским социалистическую природу кооперации в обращении, были полностью отвергнуты вместе с осуждением «правого уклона». Утвердился взгляд, согласно которому кооперация в обращении может превратиться в социалистическую лишь постольку, поскольку она перерастает в производственную. Но и относительно самой производственной кооперации преобладающим становился взгляд, что любая кооперация, где нет полного обобществления труда и средств производства, является социалистической лишь по организационной форме, в которой происходит переделка мелкотоварного уклада и борются две тенденции – капиталистическая и социалистическая.
Например, выдвигался тезис, что колхозы не являются социалистическими предприятиями, представляя собой промежуточный этап к обобществленным хозяйствам. В противоположность этой позиции существовала другая, согласно которой суть коллективизации заключается не в создании крупных хозяйств, облегчающих государству возможность их регулирования, а затем и полного огосударствления, а в том, что она создает социалистические производственные отношения в коллективном хозяйстве [170].
Позиция, с которой создание колхозов сознательно или подсознательно рассматривалось лишь как средство облегчения манипулирования экономикой сельского хозяйства со стороны государственных органов, не была плодом только теоретического заблуждения. Она была отражением взглядов многих работников партийного, советского и хозяйственного аппаратов, ориентировавшихся на методы административного командования и потому делавших ставку на введение социализма в деревне «лихой кавалерийской атакой». Даже на колхозников они смотрели с подозрением, как на бывшую мелкую буржуазию.
Эта позиция выросла, разумеется, не на пустом месте, выступая односторонней реакцией на действительные противоречия колхозного движения, на колебания крестьянства и неустойчивость первых колхозов.
Уровень обобществления в колхозах в 1929 г. был еще весьма низким. Около 60 % коллективных хозяйств составляли товарищества совместной обработки земли, где не обобществлялись ни земля, ни средства производства. Но и в сельскохозяйственных артелях стояла проблема соотношения индивидуального и обобществленного секторов. Существовала возможность при распаде колхоза деколлективизации его обобществленных фондов, в том числе и тех средств, которые были получены в результате льгот, предоставляемых государством и сельхозкооперацией, если они не фиксировались в неделимых фондах, т. е. в фондах, не подлежащих разделу между членами колхоза. Поэтому столь острым в практическом плане на всем протяжении создания коллективного строя был вопрос о формировании и закреплении неделимых фондов. Накопление этих фондов стало рассматриваться как решающий момент в превращении коллективной собственности колхозов в социалистическую.
Приведенные выше факты показывают, почему сложно было рассчитывать на быстрый рост и укрепление высших форм производственной кооперации и почему переход к этим высшим формам рассматривался как крайне желательный. Дело было не только в том, что именно эти высшие формы закрепляли социалистические отношения в деревне. Существовал и непосредственный хозяйственный интерес в переводе деревни на рельсы социалистических отношений, связанный с необходимостью резко поднять производительность сельского хозяйства для обеспечения индустриализации, чего сомнительно было добиться на основе мелкокрестьянского производства. «В течение всех последних лет мы в отношении хлебозаготовок и хлебоснабжения идем на грани удовлетворения текущих потребностей, но не имеем ни маневренных фондов, ни необходимого количества зерна для экспорта», – констатировал В. П. Милютин [171].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу