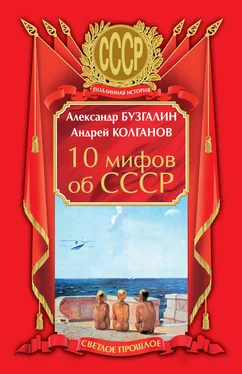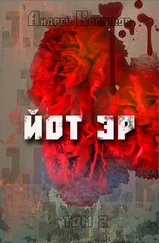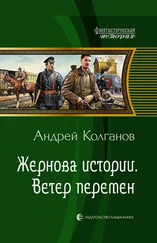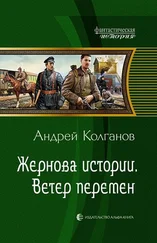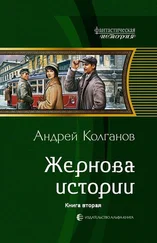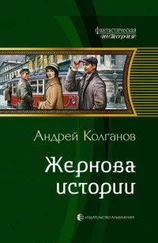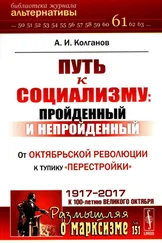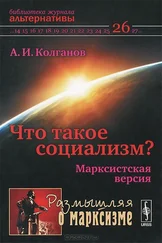Для тех, кто видит во власти Сталина государственно-капиталистическую диктатуру, расхождение линии Сталина и линии Бухарина должно быть совершенно необъяснимым (разве что с точки зрения политического соперничества). Однако советская бюрократия сталинского образца отнюдь не была чистым выражением господства государственного капитализма (смотри выше мою позицию об экономических основах советского строя). В классовом же отношении это вообще не была буржуазная или капиталистическая бюрократия.
Советская бюрократия и политически, и по составу была тесно связана со своим союзником (рабочим классом), но все же преимущественно ее составляли выходцы из низших и средних слоев старых служилых сословий, выдвинувшиеся на высшие должности в ходе революции. Главной социально-экономической детерминантой ее позиции стало в таких условиях не столько ее происхождение, сколько ее положение как центрального звена экономического и политического управления. В этом ее положении присутствовала и буржуазная (государственно-капиталистическая) составляющая – но только как элемент (и даже осколок) в ряду других. Свою эксплуататорскую функцию эта бюрократия осуществляла преимущественно не капиталистическими методами [346]. И в любом случае она была кровно заинтересована воспрепятствовать реставрации частнохозяйственного капитализма.
Противоречия нэпа и сталинская концепция их разрешения
Не следует думать, что обрисованные выше контуры сталинского подхода к социалистическому строительству в СССР были сколько-нибудь внятно сформулированной Сталиным (хотя бы для себя самого) теоретической концепцией. В своем отношении к перспективам социализма Сталин действовал чисто эмпирически, реагируя на насущные хозяйственные и политические проблемы по мере их возникновения.
Пока нэп обеспечивал быстрое восстановление народного хозяйства СССР, Сталин был горячим поклонником и защитником бухаринской линии, и вместе с ним активно выступал против Троцкого, требовавшего форсировать рост социалистических элементов в экономической системе Советской России. Когда же Сталин столкнулся с объективными противоречиями нэповской эволюции, что нагляднее всего выразилось в трудностях с хлебозаготовками, он первоначально не ставил вопрос об изменении всей экономической стратегии, а реагировал непосредственно на возникшие затруднения. В основе этих затруднений лежало желание крестьянства получать именно тот товарный эквивалент продаваемому зерну, который нужен ему, а не мириться с заниженными хлебными ценами и завышенными ценами на товары крестьянского спроса ради роста тяжелой промышленности.
Итак, чтобы получить крестьянский хлеб, надо было или менять структуру промышленного роста в пользу наращивания производства предметов потребления, сельхозинвентаря и сельхозмашин, отказываясь от форсирования тяжелой промышленности, либо обеспечить откачку этого хлеба не через обычную куплю-продажу или товарообмен. Сталин первоначально испробовал известный по гражданской войне метод – чрезвычайные меры при хлебозаготовках, принуждение крестьян продавать необходимое количество хлеба по фиксированным государством ценам. Однако ответ крестьян на применение таких методов также был известен по гражданской войне – страна встала перед призраком крестьянской «хлебной стачки».
Встав перед фактом неэффективности чрезвычайных мер, Сталин в 1928–1929 гг. без колебаний пошел на плагиат у левой оппозиции, сделав ставку на социалистическое преобразование деревни, т. е. на кооперирование крестьянства. Однако уже в 1929 г. ему стало ясно, что этот подход не даст немедленных результатов, ибо, чтобы вовлечь крестьян в производственные кооперативы (артели) путем хозяйственного примера, нужно обеспечить приток в деревню машинной техники в таких размерах, которые в ближайшие годы были не под силу советской промышленности, обеспечить массовую подготовку кадров, способных управлять крупным механизированным сельскохозяйственным производством и т. д. Именно поэтому произошел переход к политике принудительной форсированной коллективизации, а сами крестьянские кооперативы были превращены в полугосударственные механизмы, обеспечивающие не только принудительное изъятие, но принудительное производство сельхозпродуктов.
Достаточно ясно, что этот переход нисколько не зависел от социалистических лозунгов, которыми он прикрывался. Ведь одновременно со сталинской коллективизацией уничтожались те социализированные формы экономических отношений в деревне (и не только в деревне), которые были продуктом усилий по ее социалистическому преобразованию в предшествующее десятилетие. Были ликвидированы коммуны, ТОЗы, все сбыто-снабженческие, кредитные (ссудно-сберегательные), машинопрокатные и иные крестьянские кооперативы, а кадры крестьянской кооперации подведены под раскулачивание. В городах была ликвидирована система потребительской и жилищно-арендной кооперации.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу