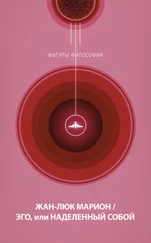Попа — никто не убедит меня в обратном — не принимает активного участия в жизни. Говоря о ней, мы почти не используем переходные глаголы — только возвратные и непереходные. Попе вообще ничего не нужно. Ее описывают скорее как факт, говоря о формах, движении и метаморфозах этой части тела. Задница, по сути дела, нуждается только в эпитетах, да и они ничего в ней не меняют. Задница есть задница, любой эпитет лишь подчеркивает тот или иной нюанс, поэтизирует ее. Украшенная эпитетом, попа вызывает экстаз, обожание, небывалую любовь или же мстительную иронию и гнусные издевки. Нет ничего удивительного в том, что попа стала излюбленным сюжетом эротического блазона— жанра, вошедшего в моду в 1535 году.
Блазоны были очень распространены в литературе первой половины XVI века. «Блазонировали» буквально все и вся. Клеман Маро написал два маленьких комических стихотворения — «Блазон о прекрасном соске» и «Блазон об уродливом соске», они имели шумный успех, и поэты принялись с упоением «дробить» и «кромсать» женское тело, сочиняя блазоны о разных его частях. Первое значение слова «блазон» — герб. В геральдике «блазонировать» означает описывать и разбирать составные части гербового щита, но специфическое употребление этого выражения быстро распространилось на другие области жизни, и в литературе блазоном стали называть детальный разбор человека или явления с последующим его воспеванием либо осмеянием. Природа этого жанра двойственна. «Блазон, — пишет Тома Себийе («Поэтическое искусство Франции», 1548), — есть бесконечное восхваление либо пространное порицание (поношение) того или иного предмета. Посвятить блазон можно как уродству, так и красоте, как злу, так и добру». Блазонами иногда называли хвалебные оды, а контрблазонами — сатирические поношения, но блазон как жанр всегда построен на двусмысленности. Блазон в чем-то сродни софизму, но отличается от него формой: и литературный и народный блазон может либо восхвалять, либо шельмовать, совмещение исключается. Непосредственный предмет блазона — всегда не более чем предлог: главное — виртуозность автора, его владение искусством парадокса. Маро показал, что человеческое тело может быть объектом как обожания, так и глумления, но отдельная деталь его способна возбуждать и поддерживать желание.
После «дела о пасквилях» (октябрь 1534 года) Маро уехал в Феррару, ко двору герцогини Рене. Именно там, вдохновляясь творчеством итальянских strambottisti [18] Strambottisti — исполнители «страмботто» — итальянских народных любовных песен.
(они бесстыдно блазонировали все подряд) и эпиграммами «Греческой антологии», он написал свой «Блазон о прекрасном соске», которым восторгались и в Италии, и при дворе Франциска I. Поэты принялись блазонировать женщину от корней волос до кончиков пальцев. Ляжка, вздох, слеза, сустав, язык, колено — все части женского тела были аккуратнейшим образом учтены. Перу Эсторга де Болье принадлежит прелестное посвящение женскому заду.
О женский зад!
О зад прекрасной девы!
Округлость форм твоих восславили напевы.
Ты золотом волос кудрявых опушен,
Ты — девушек краса и гордость зрелых жен.
Хоть прелести свои ты держишь на замке,
Но открываешь их в ответ мужской руке.
Когда же друг твоим руном играет,
Его ласкает, треплет и сжимает,
У чресл его покорно ты лежишь,
А завершив игру, трепещешь и дрожишь.
Стихотворение увидело свет в 1537 году. В конце жизни Эсторг де Болье стал реформистским священником и публично покаялся: бывший католик корил себя за создание «похотливых» блазонов и в 1546 году написал во искупление былых грехов «Духовный блазон во славу пресвятого тела Иисуса Христа». Похоти здесь, разумеется, не было и в помине. Вдохновленный успехом жанра, Маро выдвинул идею контрблазона и написал «Блазон об уродливом соске» (впрочем, стихотворение не понравилось даже ему самому). Большинство опубликованных тогда контрблазонов (в том числе куплет, посвященный заду) были анонимными: сегодня мы знаем, что они принадлежат перу Шарля де Лаюетри.
Как пишет Паскаль Киньяр [19] Паскаль Киньяр (р. 1948) — французский романист и эссеист, лауреат Гонкуровской премии.
, нечасто эпоха создает образ идеального женского тела, которое возбуждает самое сильное желание, и мало кто из поэтов прямо признавался, что именно в женском теле вызывает у него наибольшее отвращение. Так каким же был канон красоты в эпоху Возрождения? И что мы знаем об идеальной попе того времени? Что в ягодицах любимой вызывало особенное волнение? Основными критериями были цвет и упругость. Щеке, например, надлежало быть алебастрово-белой либо «светлой и смуглой», но не слишком бледной и не «черной», иногда нежно разрумянившейся, как персиковый цвет, но не набеленной и не раскрашенной, «круглой, но не слишком, твердой и полной, но не жирной и не дряблой». Я так подробно описываю щеки, потому что они зачастую дают очень точное представление о ягодицах, и наоборот. Все должно быть «кругленьким» — так говорили в эпоху Возрождения. Идеальным считался маленький коралловый улыбчивый ротик с пухлыми мягкими губками. Совершенная грудь могла быть только высокой, бело-розовой, как шарик из слоновой кости, увенчанный хорошенькой земляничкой или вишенкой. Ложбинке между грудями надлежало быть широкой, ягодицам — крепкими, с нежной и гладкой кожей, бедрам — крутыми, телу — белым и упругим, без складок, и твердым, как мрамор, и покрытым шелковистым «серебристым пушком». Итак, главными критериями красоты были белизна, гладкость и изящество форм. Безупречным считалось крепкое тело с правильными изгибами. В женщине эпохи Возрождения не было ничего текучего, она была прекрасна, как статуи из каррарского мрамора. Щеки, груди и ягодицы — все выпуклости женского тела — должны были радовать ладонь упругостью плоти. Идеальная красавица Возрождения всегда очень молода, у нее округлый живот и поджарый, как у подростка, зад.
Читать дальше


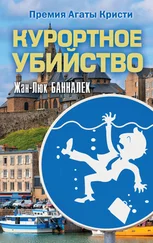
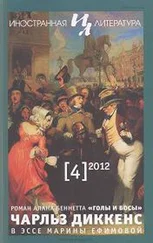

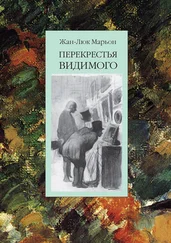

![Жан-Люк Марион - Эго, или Наделенный собой [litres]](/books/389246/zhan-lyuk-marion-ego-ili-nadelennyj-soboj-litres-thumb.webp)