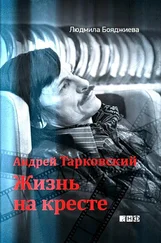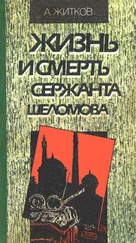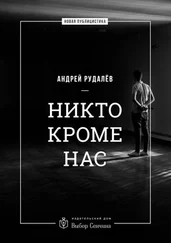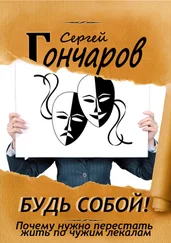Сейчас период преждевременного старения всего. Наше общество накрыла какая-то эпидемия, когда сплошь и рядом видишь двадцатилетних пенсионеров, которые и в подметки не годятся по своей энергетике, жизненной мощи тем же шестидесяти-семидесятилетним. У них зачастую нет искры в глазах, жажды и радости жизни. Они не живут протестом, или довольствуются каким-то искусственно выведенным его гибридом. Они не имеют своего голоса и будто растения соглашаются с жизнью по плану поливок и удобрения почвы. Их ослепили блестящие бубенцы современных колонизаторов мира, и за эти безделушки они готовы на все что угодно. Это поколение совершенно не героично, оно мещанское изначально. Так и вспоминаются строки Константина Кинчева: «Моё поколение молчит по углам, моё поколение не смеет петь». Поколение роботизированное, стадное, естественно, не все, но именно такое выводится в эталон.
Судите сами, как-то главный кремлевский идеолог Владислав Сурков раскрыл голубую мечту рядовых членов молодежных организаций типа «Наши» и «Молодая гвардия»: «У меня есть опыт работы с молодежными движениями, самыми массовыми в стране. И, когда их спрашиваешь: куда вам нужен лифт? куда вы все хотите? — они все хотят в «Газпром»…
Вообще в этом мире катастрофически мало настоящего, но с преизбытком декларативного, пиарного, имиджевого. Практически единственным побудительным мотивом является страх вышестоящего начальства или пристальное внимание компетентных органов. И при этом нас усиленно затаскивают в ситуацию натурального хозяйства, когда государство с безумной страстью сосет углеводороды, а его граждане, в частности, промышляют сбором ягод-грибов.
Поэтому мне остается завидовать своему деду. У него было великое счастье — он пришел с фронта. Завидовать мощи своей бабушки, которая, рано оставшись без родителей, в военные годы подняла своих младших братьев, и сестру и до сих пор в свои 80 с лишним лет является локомотивом всей семьи. Жизнь этого поколения — вот что было настоящим, это вам не наше папье-маше и разноцветье фантиков!
Вот и остается чувствовать себя ущербным по сравнению с Великим поколением времен Великой войны, терзаться, что лично у меня не было счастливой возможности закрыть поливающий смертью вражеский дзот и подарить несколько секунд для решающего броска товарищам.
Нравы
Бесконечно долго унижать чувства людей, говорить все они выходцы из ракетоносной страны третьего мира нельзя. Пора поиграть на иных душевных струнах. Сладкозвучные сирены стали наперебой усыплять пафосной риторикой о возвращении былого величия страны. Однако расслабляться не надо. В реальном, а не идеологическом поле агитпропа постоянно ощущается подвох, неискренность.
Один из диагнозов, которых можно с ходу поставить нашей власти — комплекс самозванства.
Хотя это касается не только властных элит. Подобное ощущение стало тотальным и в один прекрасный момент чуть не переросло в национальную идеологию. Люди потеряли переживание истории, своей вписанности в ее процесс, возникло ощущение сиротства, покинутости. Прошлое, как безусловный темный период, предается остракизму, будущее аморфно и практически нереализуемо. Отсюда и лозунги дня: живи моментом, бери от жизни все или, по крайней мере, сколько можешь унести. В какой-то один момент сказали, что всему виной прошлая жизнь, жизни ваших отцов и дедов, что сейчас наступают новые времени, главная миссия которых исправить то, что натворили несуразные поколения (обратите внимание, эта риторика повторяется и сейчас, только обращена она уже к временам 90-х). Процесс исправления пойдет сложно, порой жестко, но что здесь жаловаться, ты же сам во всем виноват…
Важно и то, что в советское время практически при любой ситуации тебя не покидало ощущение уверенности, по крайней мере, в завтрашнем дне, включенности в мощную социальную систему (если, конечно, ты не встал в откровенно маргинальную внесоциальную позицию). В принципе ты мог устроиться на любую работу, чтобы прокормить не только себя, но и семью. Ты мог быть хоть дворником и получить квартиру на обслуживаемом участке. То теперь: шаг влево, шаг вправо…, от тюрьмы и до сумы… Человек все больше ощущает себя канатоходцем, двигающимся даже без шеста и страховки.
В СССР гражданин переживал ощущение сопричастности государственной системе. Пусть это было во многом иллюзорно, но каждый человек верил, что огромные богатства страны — это и его личное достояние. Именно поэтому он с такой легкостью купился на ваучер, так как всегда верил, что его часть при справедливом распределении должна быть достаточно весомой.
Читать дальше