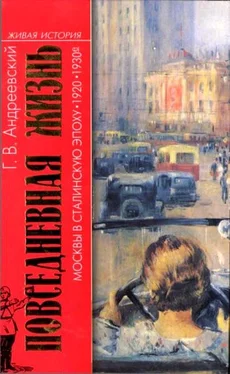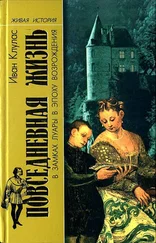В двадцатые годы в Москве выстраивались и другие очереди. Тянулись они к биржам труда. Одна часть городской биржи труда находилась в большом сером доме на Рождественском бульваре, а другая — на Каланчевке, в большом доме, стоящем слева от высотного здания гостиницы «Ленинград». Когда-то здесь была чаеразвесочная фабрика, а на доме красовалась вывеска: «Торговый дом С. В. Перлов». В этом здании находились секции совторгслужащих, железнодорожников, водников, строителей и чернорабочих. Известно, что чем проще квалификация и ниже разряд, тем, как пра вило, грубее и примитивнее человек. Секцию чернорабочих посещали не только чернорабочие, люди сами по себе не очень культурные, но и бродяги из находившегося неподалеку Ермаковского ночлежного дома, прикрывающие перед милицией свое тунеядство видимостью ожидания работы на бирже труда. Они вносили в жизнь биржи пьянство, грязь, скандалы и воровство. Для того чтобы обезопасить от них женщин, сделали перегородку. Одна часть зала стала мужской, а другая — женской. Заходить на мужскую половину женщинам было небезопасно. Запросто могли изнасиловать, и даже группой.
Немало обид от посетителей видели и работники биржи. «Дура», «проститутка», «воровка», «сволочь» — не самые худшие слова, которые приходилось им слышать в свой адрес. Иногда доходило и до хулиганства. В 1928 году некто Борисов в Таганском отделении биржи труда в ответ на отказ направить его на работу стал выражаться нецензурно и плюнул в лицо работнику биржи. Получил он за это два года.
В феврале 1929 года недовольные постоянными отказами в направлении на работу москвичи устроили на Каланчевской бирже скандал. Явилась милиция. Более двадцати очередников было арестовано и осуждено.
Биржи труда были в каждом районе. Одна из них, например, занимала здание Министерства здравоохранения в Рахмановском переулке. Особенно большие очереди выстроились у всех этих бирж, когда в 1923 году в учреждениях Москвы произошло сокращение штатов — «разгрузка», как ее тогда называли.
О «разгрузке» заговорили еще в 1921 году, а в январе 1922-го газета «Беднота» писала по этому поводу следующее: «Лишенный права торговать обыватель живо пролез в «советские служащие» и засел в бесчисленных «отделениях» губ, уезд и облисполкомов». В то время, надо сказать, нэп еще не начинался и средств на содержание большого количества чиновников у государства не было. Ведь помимо всяких замов, помов, предов и руководов были еще простые переписчики, а поэтому не удивительно, что после «разгрузки» очередь на биржу труда в Сытинском переулке протянулась вдоль всего Тверского бульвара. Несчастные люди! Ушли для них в прошлое шум, гам и пыль тесных советских учреждений, растаяли как дым аванс и получка по первым и пятнадцатым числам каждого месяца, а главное, их личная причастность к деяниям первого в мире государства рабочих и крестьян. Чем заняться им, что делать?
Некоторые ходили на почтамт и подрабатывали тем, что писали письма неграмотным, «темным», как они говорили, людям. Писателей этих называли «переводчиками». «Здравствуйте, дорогие, — писали они под диктовку какой-нибудь Акулины Кузьминичны, — Устинья, Петр, баба Марья, сестра Глаша, с горячим московским приветом к Вам ваша…» и т. д. и т. п.
Некоторым удавалось пристроиться распространителями газет. В 1926 году Московское общество «Печать» даже ввело для них форму. Они стали носить фуражки с номерами. Время от времени безработных за небольшую плату привлекали к общественным работам. Но все это было случайно, непостоянно и бедно.
Обитали, правда, в Москве люди, которые вообще не ждали милости от биржи труда. Такими, в частности, являлись жившие на Воробьевых горах «свалочники» (за Калужским шоссе и речкой Кровянкой находились в то время городские свалки, позднее, в 1926 году, в Москве была организована единая свалка на Сукином болоте, куда вело Дубровское шоссе, теперь Волгоградский проспект). Пятый этаж Ермаковского ночлежного дома также занимали «мусорщики». Вооружившись мешками, крюками или железными палками, они ходили по помойкам и свалкам и собирали то, что другие выбрасывали. Это был тот случай, когда количество перерастало в качество. Куски материи, бумага, разные железки, выброшенные по отдельности, в мешках «мусорщиков» и «свалочников» превращались в капитал. В 1930 году, например, пролетарии помоечного труда собрали и сдали государству ценных промышленных отбросов на 12 миллионов рублей! Примером для людей этой малогигиеничной профессии служил московский «тряпичник» Иван Морозов, составивший до революции капитал на всяком хламе. Жил он на Усачевке, недалеко от городских свалок, и имел в Москве собственные дома.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу