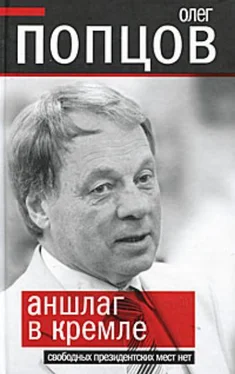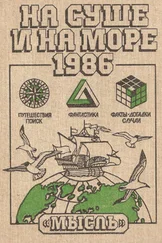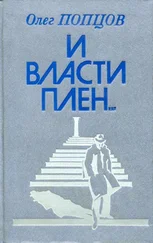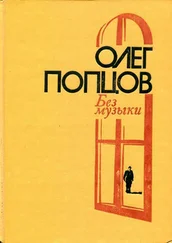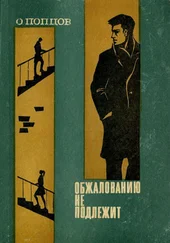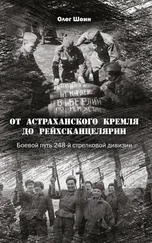Заметим также, что показатели нашего экономического развития до сих пор не достигли уровня 1990 года. А ведь позади пятнадцать лет реформ.
Неверие власти стало определяющей нормой повседневного существования общества. И с каждым днем масштаб этого неверия разрастается. Вопрос: как остановить этот процесс? И надо ли его останавливать? Рассуждая здраво, конечно же, надо. Неверие в способность власти — прямой путь к развалу государства.
Рассуждения властного чиновника на сей счет, достаточно трафаретны: «Надо немедленно перекрыть кислород средствам массовой информации. Они — разносчики этой заразы». Реплика по ходу рассуждений: недоверие к власти — это зараза или лекарство?
Я повторяю, как «Отче наш», свои собственные слова: власть в нашем, да и не только в нашем государстве, никогда не живет по законам общества. Она всегда живет по законам власти.
Социализм, провозгласивший идею равенства, пытался стереть эту грань, приблизить власть к согражданам по максимуму и свести к минимуму социальное расслоение. Долго предметом гордости для любого представителя власти была его рабоче-крестьянская родословная. Затем социализм создал свою интеллигенцию, и во власти стали появляться ее представители. И, тем не менее, бескорыстие власти считалось неким знаковым постулатом, и оплата партийных чиновников была соизмерима с оплатой труда в обществе в целом.
У социализма существовало достаточно изъянов, но желание приблизить власть к народу было очевидным. И термин «народная власть» был отражением реальности. Достаточно вспомнить разнарядки по формированию выборных органов: крестьяне, интеллигенция, рабочие, ученые, деятели культуры, профсоюзы. Произошло ли вырождение этого принципа народовластия? Бесспорно.
В начале 90-х годов народ был задействован, как таран на улицах и площадях. Он был участником демократического обновления страны, но вот что удивительно: новая власть не только не приблизилась к народу, а стала стремительно от него отдаляться, посчитав народ продуктом проклятого социалистического прошлого, который в своей массе является тормозом реформ, потому что его сознание — сознание иждивенцев: любые запросы человека обязано удовлетворять государство.
Нельзя сказать, что в этих суждениях реформаторы были категорически не правы. Со временем социализм подменил высокие принципы равенства низкопробными нормами уравниловки, дискредитировал великую идею. Но младореформаторы страшились народа. Наступил длительный период отторжения его от власти, как и от среды его обитания, каковыми являлись заводы, колхозы, научно-производственные комплексы, предприятия ВПК, школы, больницы, сельское хозяйство. Будучи выходцами из академических институтов, никто из реформаторов практически не работал на производстве, в той самой среде обитания подавляющего большинства общества. Я был свидетелем и участником этого процесса. Егор Гайдар позвонил мне и попросил приехать. Мы встретились в Институте экономических реформ, который тот возглавлял. Тема беседы оказалась для меня абсолютно неожиданной. Мне было предложено стать оргсекретарем партии «Демократический выбор России». Приближались какие-то очередные выборы.
Как мне помнится, я тогда ответил: «У вас есть оргсекретарь. Его фамилия Чубайс». Гайдар мгновенно отреагировал: «Он оргсекретарем быть не может. Он должен довести приватизацию до конца». Второй вопрос, который был задан мне, был не менее интересным. «Кто на твой взгляд должен стать членом такой партии? Иначе говоря, какой социальный слой должен оказаться ее опорой?»
«Смотря, что положить в основу этой характеристики, — ответил я. — Уровень образования или компонент собственности? Если первое, то это врачи, учителя, инженеры, служащие. Иначе говоря, средний класс».
И тогда Егор Тимурович произнес поразившие меня слова: «Врачи, учителя, инженеры — это иждивенцы, они бюджетники, а проще говоря, нахлебники. Для них государство — дойная корова. Они не могут быть сословием собственников. Мы должны создать новый средний класс, ориентированный на частную собственность. Но пока его нет».
«В этом случае, — сказал я, — ваши избиратели — это владельцы подержанных иномарок».
«О! — поддержал меня Егор Гайдар. — Это хорошо! Это очень точно!»
Мы еще о чем-то поговорили, и я уехал, сказав напоследок, что в этом организационном деле я, конечно же, хорошо разбираюсь. И, наверное, у меня есть какой-то политический авторитет, но сделанного мне предложения я принять не могу.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу