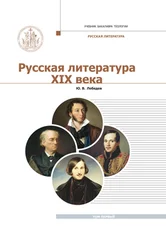Но лгать и впрямь нельзя, и кое-как
Сказать нельзя — на том конце цепочки
Нас не простят укутанный во мрак
Гомер, Алкей, Катулл, Гораций Флакк,
Расслышать нас встающий на носочки.
Кушнер разрабатывал и «язык листвы», и словарь исторических аллюзий и параллелей. Впрочем, и аллюзия в те времена была наказуема. Помню, как, работая еще в старом «Знамени», я пыталась напечатать стихотворение Кушнера, в котором были такие строчки: «Россия, опытное поле, мерцает в смутном ореоле огней, бегущих в стороне», — ничего из этой затеи не вышло, а меня («Как вы смели!») вместе с автором обвинили в «непонимании аллюзий». (А сегодня кто только не рассуждает о драматических последствиях исторического эксперимента, осуществленного в нашей стране…)
Д. Самойлов использовал природную палитру — лепет дождя под водосточной трубой, укутывающий снег, голос ночной вьюги и музыки, губителя и лекаря, «милые и легкие» слова любимой…
Я учился языку у нянек,
У молочниц, у зеленщика,
У купчихи, приносящей пряник
Из арбатского особнячка.
А теперь мне у кого учиться?
Не у нянек и зеленщика —
У тебя, моя ночная птица,
У тебя, бессонная тоска.
Для разговора с читателем о своем времени он искал свое эзоповское слово:
А слово — не орудье мести! Нет!
И, может, даже не бальзам на раны.
Оно подтачивает корень драмы,
Разоблачает скрытый в ней сюжет.
«Скрытый сюжет» присутствовал и в исторических балладах Самойлова, в его вольных стилизациях, в исступленности его любовного цикла «Беатриче».
В близком по духу направлении развивал свою систему поэтических «знаков» и О. Чухонцев, выпустивший свой первый сборник с огромным трудом и большими потерями в 1976 г. (на самом деле за бумажной обложкой «скрывались» целых три книги). Никогда не политиканствующий сам и не политизирующий свою лирику, чуждый любой «партийности» мышления, Чухонцев, рифмуя «погода» и «свобода» (а «погодные» сравнения были традиционными для нашего эзопова языка), смог обозначить коренные проблемы нашей духовной и общественной жизни. А иногда убаюканный ритмом цензор пропускал и абсолютно прямую, разящую речь:
Я понял: погода ломалась,
накатывался перелом,
когда топором вырубалось
все то, что писалось пером…
(1964)
И все же в условиях усиливавшегося давления, запрета на вольное слово поэт упорно искал возможность обретения внутренней свободы:
Так вот она, твоя морока,
твоя дорога, дуралей;
ищи, как говорится, Бога
в себе самом, да слезы лей…
А в другом стихотворении из того же сборника мысль Чухонцева перекликалась со свербящей мыслью Кушнера о тупике, о «проделанном круге»:
Круг завершен, и снова боль моя так далека,
что за седьмою далью кажется снова близкой,
и на равнине русской так же темпа дорога,
как от глуши мазурской и до тайги сибирской.
Широко используя в своем эзоповом языке исторические аналогии, Чухонцев (окликая тень Дельвига) выбирал свою нишу и свою маску: «Прекрасное время! Питух и байбак, я тоже надвину дурацкий колпак». Он, скажем, не осуждал покинувших страну во времена нараставшего безмолвия и даже прикидывал возможность отлета: «Вот уже песня в горле высохла, как чернила, значит, другая повесть ждет своего сказанья. Снова тоска пространства птиц подымает с Нила, снова над полем брезжит призрачный дым скитанья…» Но все-таки не эту судьбу он выбрал, а «колпак дурака» посадского человека, обывателя (тут и место рождения — Павлов Посад — стало значительным фактом). Если Кушнер — оскорбленный якобы провинциализмом петербуржец (на самом деле его город для него — синоним центра высочайшей культуры, противоположный бюрократическому центру — Москве), то Чухонцев горделиво провинциален, ведь он ощущает себя в реальном, а не в фантасмагорически «правительственном» центре; он — в самой сердцевине России.
В стихотворении «Паводок», повествующем об обычном для средней полосы России природном явлении, после пейзажной зарисовки поэт неожиданно и почти неуловимо для убаюканного пейзажем цензора переходит от картины, близкой суриковской, через свою участь — к судьбе страны:
Здесь, у темной стены, у погоста —
оглянусь на грачиный разбой,
на деревья, поднявшие гнезда
в голых сучьях над мутной водой;
на разлив, где, по-волчьему мучась,
сходит рыба с озимых полей,
и на эту ничтожную участь,
нареченную жизнью моей;
оглянусь на пустырь мирозданья,
поднимусь над своей же тщетой,
и внезапно — займется дыханье,
и — язык обожжет немотой.
Читать дальше