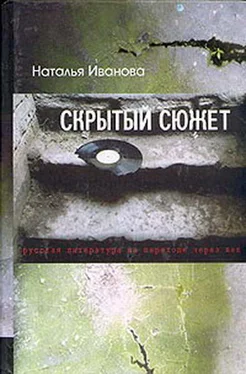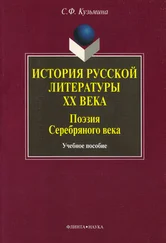На эзоповом языке разговаривали со зрителем — каждый по-своему, конечно же, — А. Эфрос и М. Захаров, О. Ефремов и М. Розовский.
Кризис театра, о котором — недружно, но одновременно — толкуют театральные критики, гоже порожден прежде всего сменой речи, ненужностью эзопова языка, вошедшего в состав крови современных деятелей театра. Помочь преодолению кризиса может и «новое табу»… Например, табу на какие-то современные события. И лучшим спектаклем сезона, по мнению многих критиков, стал «Мудрец» в Театре Ленинского комсомола, поставленный М. Захаровым по обновленному рецепту «эзопова языка» с инкрустацией новых «достижений» эпохи гласности — например, актера на сцене в чем мать родила… Но вернемся во времена «застоя».
Цензурные рогатки сыграли роль стилистического фермента в развитии русской литературы. О парадоксально-позитивном влиянии цензуры на литературу в 1978 г. размышлял И. Бродский: «Аппарат давления, цензуры, подавления оказывается… полезным литературе. Если имеет место цензура, а в России цензура имеет место, дай Бос! — то человеку необходимо ее обойти, то есть цензура невольно обусловливает ускорение метафорического языка. Человек, который говорил бы в нормальных условиях нормальным эзоповым языком, говорит эзоповым языком в третьей степени. Это замечательно, и за это цензуру нужно благодарить» (Бродский И. «Язык — единственный авангардист». «Русская мысль», 1978, 26 января). Другую мысль — и другими словами, с другими оттенками, но сходную по изначальному пункту, высказал и А. Кушнер одиннадцать лет спустя: «Свободомыслие… может декларироваться, быть открыто заявленным, подобно цветам на фруктовом дереве, а может содержаться внутри стиха, как сок в апельсине: поэтическое слово многозначно, разогрето ритмом, его метафорическая сущность помогает ему легче преодолевать идеологические барьеры» («Противостояние». «ЛГ», 1989, 9 августа).
Перед самым «закатом застоя» Государственную премию СССР получил сборник В. Соколова «Сюжет», в одном из стихотворений которого словно оживают цветы на дереве, о которых говорит Кушнер. Сиреневому кусту уподобляет В. Соколов нереализованную поэтическую силу, тающую у поэта «шагреневой кожей» под натиском прямо не названной цензуры:
Я шел, самим собой тесним.
Стремясь себя в проулки вытеснить,
Поскольку был не чем иным,
Как клеветою на действительность.
Все выдержал, любовь любя.
Но — хоть скажи в свой час
шагреневый:
«Я выкорчевывал тебя,
Исчадье ада — куст сиреневый».
Вот распространенный сюжет «тайной беды» наших поэтов, на которую отозвался Д. Самойлов («Стихи читаю Соколова»)… Но, как ни выкорчевывали этот куст, он все же выстоял — и даже цвел, несмотря на идеологические заморозки. Поэты искали каждый свою, но внятную друг другу — и внимательному читателю — языковую систему. Тем более что язык русский от воздействия языка официального, так называемого «языка межнационального общения» (а лучше оруэлловское определение — новояза), оскудевал, словарь его вымывался.
Первый раздел своей книги «Таврический сад» (1984) А. Кушнер назвал «На языке листвы». Дыхание ночной листвы, всхлип дождя, уснувшая бабочка, настольная лампа, теплая близость любимой — вот мотивы этого раздела. Скромные, житейские, не претендующие на сокрушение основ мотивы. Но сколь гневной отповедью (гнев был совершенно несоизмерим с акварельной нежностью кушнеровской лирики) отметила сборник газета «Правда», немедленно откликнувшаяся зубодробительной статьей П. Ульяшова. Особенное раздражение у критика вызвали именно бабочки, цветы, листва — хотя, казалось бы, что в них? Но за этими «аполитичными» мотивами слишком явственно ощущалась оскорбительная для властей духовная независимость, внутренняя неподчиненность. Поэт говорил о свободе и несвободе на «языке листвы», на языке жимолости и сирени, на языке случайно залетевшего мотылька и быстрой ласточки, колыханья шторы и тополя за углом, но в «разгоряченном ритмом» стихотворении возникал и «отучивший жаловаться нас свинцовый век»: гнетущая, мрачная противоположность и полету бабочки, и полету мысли. Кроваво-красная жидкость в градуснике, таком домашнем, рифмовалась в сознании чуткого читателя с судьбой России — и даже всего мира: «Как в мире холодно, а будет холодней».
Да, словно времена Шумера и Аккада опять возвращались к нам: «Так быстро пройден путь, казавшийся огромным! Мы круг проделали — и не нужны века…». О конце иллюзий, об историческом тупике и о нравственном стоицизме личности свидетельствовали стихи, сказанные поэтом не только перед лицом современника в 84-м году, но и перед лицом требовательной вечности:
Читать дальше