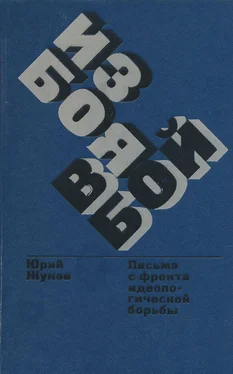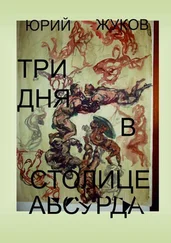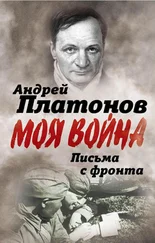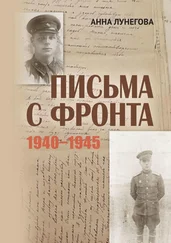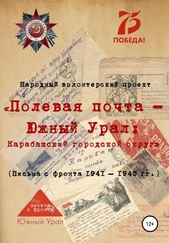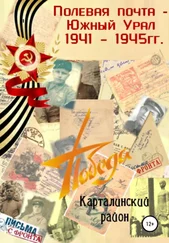«Наша эпоха — в тупике, — заявил этот академик, — нас ждет катастрофа, если мы не поймем, что этот тупик — материализм… Успехи физики, пауки о материи, вовлекли нас в область диалектического материализма». Хюижу кажется, что спасение может быть найдено лишь на пути возврата к идеализму, к поповщине, к мракобесию. Тут уж, конечно, не до судеб искусства — пусть оно провалится в тартарары, надо спасать рушащиеся устои системы.
Но как это сделать? Ни у академика Рене Хюижа, ни у его собеседника — искусствоведа Андре Парино ответа на этот «проклятый вопрос», естественно, не нашлось. Они смогли лишь констатировать, что сейчас происходит «умерщвление искусства».
Мне остается рассказать еще об одном новом течении в современном западном искусстве, которое также было весьма широко представлено на Парижской Бьеннале
1971 года; оно именуется гиперреализмом, что в вольном переводе означает «сверхреализм» или «реализм в квадрате». Огромный раздел, посвященный гиперреализму, был заполнен полотнами, па которых буквально с фотографической точностью воспроизведены человеческие лица, пейзажи, домашние интерьеры, детали машин, игрушки, паровозы, автомобильные шины, тюфяки — все, что как бы случайно попало в поле зрения художника и было походя запечатлено им.
С чисто технической точки зрения многие эти картины могли бы считаться шедеврами живописи — кисть работает виртуозно, воспроизводя каждый волосок и каждый прыщик на человеческом теле, каждую гаечку и каждую каплю масла па теле машипы. Идеально дано освещение, с абсолютной точпостью сохранены академические пропорции. Глядишь на картину и теряешься в догадках — то ли перед тобой работа живописца, то ли это отлично выполненная цветная фотография. Что сон сей значит? Откуда это поветрие дичайшего натурализма? Зачем художники растрачивают свои творческие силы на это механическое копирование действительности? Ведь они, судя по техническому совершенству их работы, люди незаурядного мастерства! Уж если они решили набраться мужества и противопоставить страшному бреду ультрасовременного сверхмодернизма возврат к реалистической манере, то зачем же, к чему им этот новый выверт — поворот к приземленному, плоскому, тупому натурализму?
Возрождение интереса к фигуративному искусству началось не сегодня и не вчера — я наблюдал его па выставках в Париже, Нью — Йорке, Лондоне, Риме и даже в Токио и десять, и двадцать лет тому назад, когда все больше художников начинало разочаровываться в абстрактных композициях. Шло оно зигзагами — то усиливаясь, то ослабевая. В конце 50–х годов шумное вторжение в выставочные залы поборников «поп — арта» и «новых реальностей» нарушило этот медленный процесс выздоровления искусства.
В какой‑то мере, однако, и эти новые веяния содействовали возрождению интереса к реалистической манере изображения: ведь и «поп — арт», и «новые реальности» требовали правдоподобного, хотя и сугубо натуралистического воспроизведения предметов, взятых из окружающей человека среды. И не случайно некоторые американские художники, увлеченные Раушенбергом, Уорхолом, Ольденбургом, Джаспером Джонсом на ухабистый путь «поп-арта», вдруг обрели вкус к реалистическим приемам живописи. В какой‑то мере переломный момент обозначился уже в шестидесятые годы, когда в музее Уитни в Нью-Йорке открылась «Выставка двадцати двух реалистов». Среди работ, представленных на этой выставке, выделялись мастерством исполнения «Сцены из деревенской жизпи» Алекса Колвилла — это были реалистически воспроизведенные сцены из жизни канадских лесорубов.
Но вот что бросилось в глаза тем, кто заинтересовался работами этих новых американских реалистов: они ста рательно подчеркивали свою полнейшую незаинтересованность в том, что ими было изображено. Явственно давало о себе знать какое‑то напускное бездушное равнодушие: художник лишь констатировал увиденное им — он ничему не радовался и ничего не осуждал, никого никуда не звал. Как будто и не было живого человека, который вглядывался в жизнь, стремясь воспроизвести увиденное на полотне, а просто стоял фотографический аппарат и автоматически щелкал, фиксируя увиденное.
Обо всем этом я невольно вспомнил, глядя на работы гиперреалистов, представленные осенью 1971 года на Парижской Бьеннале. Художники словно наперебой щеголяли друг перед другом своим формальным мастерством. «Поглядите на мой «Голубой фольксваген»! — как бы взывал американец Дон Эдди. — Чем это хуже цветной фотографии?» — «А моя автомобильная шина АТ-89? — как бы откликался швейцарец Петер Стампфи. — Неправда ли, я ее дал в отличном ракурсе?» — «Ну, а мой триптих? — как бы вмешивался колумбиец Сантьяго Карденас Арройо. — Живопись № 1 — Зонт! Живопись № 2 — Пиджак! Живопись № 3 — Стул!..»
Читать дальше