Я вышел из кинотеатра «Линкольн-плаза» на Бродвей. Напротив уже освещались огромные панно Шагала за стеклами «Метрополитен-опера». Огромный босой негр с карибскими косичками спросил квотер. В афише под профилем Шостаковича сообщалось о предконцертной дискуссии с участием Татьяны Толстой и Соломона Волкова. Официанты отодвигали от дверей ресторана «О’Нил» алкаша с зажатым в руке мерзавчиком «Смирновской». Небритый славянин на углу плохо играл на саксофоне. Я пошел к площади Колумба, к остановке метро, следовать совету Дюка Эллингтона — «садись в поезд А», что делаю ежедневно. Чехов продолжался, как только что наглядно объяснили мне Андре Грегори и Луи Малль. Разумеется, он был раньше и всегда, только до этого надо додуматься.
Зал на трехчасовом сеансе «Вани на 42-й стрит» был заполнен окрестными пенсионерами: до пяти билеты для них за полцены. Аккуратные чистенькие старички и старушки из этого респектабельного района (старушек почему-то куда больше, дольше живут?) оживленно щебетали, хихикали в местах про водку, но постепенно притихли, как-то уж совсем, так что я даже боялся обернуться. Да и отрываться от экрана не хотелось.
«Дядя Ваня» — самая таинственная и неуловимая из чеховских пьес. Нет в ней даже того внятного, хоть и многослойного, символа, который снабжает неким ключом к другим драмам: вишневого сада, чайки, нависающей над сестрами Москвы. Ни гульбы, ни спектакля, ни пожара. Есть выстрел, даже два, но оба мимо — Треплев-то не промахнулся. Из усадьбы Раневской если уезжают в финале, так уж все, кроме Фирса, опять-таки символа-подсказки. А здесь кто был в начале, тот и остается при своем.
«Дядя Ваня» воспринимается в цельности как отчаянный гимн жизни, необходимости продолжения жизни как существования вида. В такой тупиковой формулировке на самом деле и есть выход из любых коллизий. Если надо просто жить, то остальное (во имя чего? для кого? зачем?) приложится. Этот чеховский пафос безнадежного оптимизма слышен в страшноватой строке Бродского: «Что сказать мне о жизни? Что оказалась длинной». Еще до четырехкратного «уехали» в финале, когда уже ясно, что все возвращается вспять, происходит важнейший обмен репликами между няней Мариной и Телегиным-Вафлей: «Давно уже я, грешница, лапши не ела». — «Да, давненько у нас лапши не готовили». Театр приходит и уходит, а лапша длинна и неизменна.
Noodles , — со смаком произносит Джерри Майер — Вафля, вытягивая губы, словно над горячей лоханкой в китайской забегаловке. Рядом с розой, которую дядя Ваня принес Елене Андреевне, — неубранный после антракта стаканчик с надписью I love New York . Няня похоже складывает руки под грудью и поджимает накрашенные губы. Зубы у всех великолепные. Водку пьют не морщась, даже Соня. С улицы слышны сигналы машин. Старушки в зале у меня за спиной сочувственно вздыхают. Чехов учел все.
Блистательная игра актеров — это Андре Грегори. Но фильм — это все же Луи Малль, хотя «кино» позволяет себе проявиться всего дважды по ходу пьесы. Елена Андреевна произносит монолог о скуке и любви, не разжимая губ, закадровым голосом. И еще: перед последним актом камера вдруг описывает панораму по покосившимся балкам театра «Нью-Амстердам», уходящим в никуда лестницам, разбитым стульям, рваным коврам, сваленным в кучу голубым полицейским ограждениям. Но именно камера Малля — главный инструмент прочтения Чехова: она дает ракурс и крупный план, а это и есть личность.
С поразительным лаконизмом Малль показал то, на что не способен театр. В театре, как ни сворачивай программку в трубочку, мы видим все вместе: ни один герой не выпадает из контекста. Даже на пустой сцене, даже без декораций, остается сценическая рамка, в которую вписан персонаж. Все соотносится со всем, и в этом великий релятивизм театра: никто не бывает безусловно прав. Крупный план кино несет пафос оправдания. Этот эффект хорошо знаком по биографическому жанру в литературе. Мы долго валили на советскую власть вину за апологетические биографии, в которых Пушкину не позволяли хулиганить в лицее, хотя это ведь принцип всеобщий: коль скоро ты пристально и любовно занимаешься предметом, то почти неизбежно теряешь чувство моральной соразмерности. Крупным планом прав каждый.
Этот прием виртуозно использует Луи Малль. У него хорош даже профессор Серебряков, который на крик Елены: «Скажи, что ты хочешь от меня?» — так просто и честно отвечает: «Ничего», и так правдивы глаза и искажена мукой каждая морщинка Джорджа Гейнса, что подлинным страдающим героем оказывается он.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
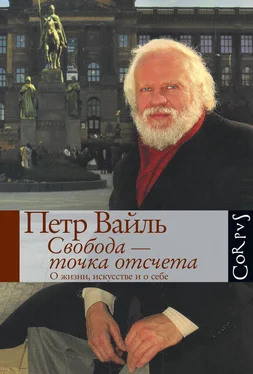
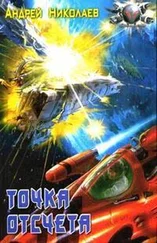


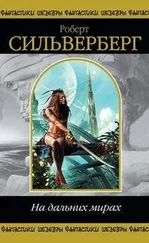
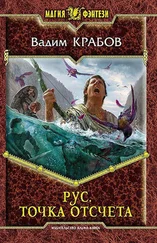


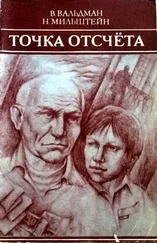
![Пётр Вайль - Картины Италии [litres]](/books/431865/petr-vajl-kartiny-italii-litres-thumb.webp)


