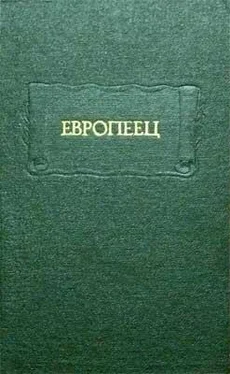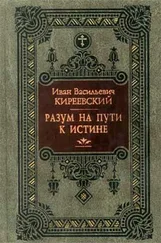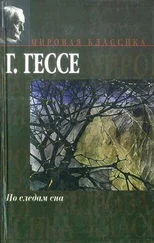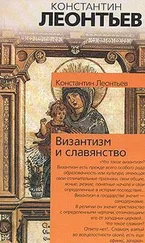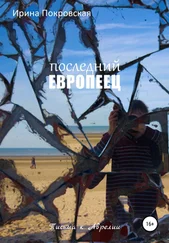Иван Киреевский - Европеец
Здесь есть возможность читать онлайн «Иван Киреевский - Европеец» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Публицистика, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Европеец
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Европеец: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Европеец»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Европеец — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Европеец», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
И Франция имеет своих рецензентов искусства, критикующих каждое новое произведение по старым принятым правилам; своих обер-знатоков, порхающих но рабочим комнатам и улыбающихся одобрительно, когда угождают их пристрастию. Эти господа не преминули произнести приговор свой и Декамповым картинам. Г. Иаль [14] [14] Иаль — Яль Август (1795–1873), французский литератор.
, издающий после каждой выставки особую брошюрку, думал унизить картину и посмеяться над почитателями оной, смиренно сознавшись, что он человек простой, рассуждающий по правилам, понятным уму, и что бедный его разум не может видеть в Декамповой картине того высокаго, мастерскаго произведения, которое признают в ней люди, парящие выше ума и рассудка. «Бедный человек со своим бедным разумом! Он не чувствует, как праведно осудил себя! Бедному разуму никогда, в самом деле, не приходится быть главным судьею в делах изящного искусства, — так же точно, как при создании оных никогда не играет он первой роли. Идея творения изящного рождается в душе [15] [15] Идея творения изящного рождается в душе … (и далее) — Эта мысль сформулирована Гейне, очевидно, под влиянием Августа Вильгельма Шлегеля (ср.: Schlegel A. W. Vorlesungen über schöne. Literatur und Kunst Stuttgart, 1884. Bd. 3. S. 4,120).
; душа просит у фантазии существенной ее помощи; фантазия бросает ей все цветы свои навстречу, осыпает ими идею и, вероятно, скорее бы задушила, нежели оживила, если бы хромоногий разум не подоспел с садовническим ножом своим, не отбросил излишних цветов своих и не подчистил ненужного.
Разум смотрит только за порядком; его можно назвать полициею изящных творений. В жизни он ничто иное, как холодный счетчик; подводит итог под наши дурачества; и, ах, иногда при банкротстве изорванного сердца, он, угрюмый бухгалтер, спокойно записывает недочет.»
Главная ошибка всегда состоит в том, что критик спрашивает: как должен художник делать? Гораздо правильнее был бы вопрос: чего хочет художник? или что ему нужно? Первый вопрос есть произведение тех философов искусства, которые без собственной поэзии заметили несколько особенностей различных изящных искусств, по ним установили мерило для всего будущаго, изобрели разные роды, выдумали правила и определения. Они не знали, что такие отвлеченности полезны только для толпы подражателей, но что каждый своеобразный художник, что каждый новый гений искусства должен судиться по своим законам, по эстетике, им самим изобретенной. Такие умы всего менее подходят под чужие правила и меряются на чужой аршин. Для исполинов фехтовальное искусство не существует, говорит Менцель [16] [16] Менцель Вольфганг (1798–1873) — немецкий писатель, критик, журналист, общественный деятель. Выдававший себя в молодости за оппозиционера, он позднее открыто перешел на сторону реакции и приобрел печальную известность клеветническими выступлениями против писателей «Молодой Германии». Л. Берне и Г. Гейне заклеймили Менделя как доносчика и ренегата. Убийственную характеристику этого деятеля дал Белинский в памфлете «Мендель критик Гете» (1840). В период издания «Европейца» реакционность позиций Менделя еще не вполне определилась. Киреевский следил за выступлениями Менцеля и обсуждал их в своем журнале. Здесь цитируются слова Менцеля из его книги Die deutsche Literatur. Stuttgart, 1828. Teil 1. S. 29.
, их удар прорубает парады. Каждаго гения должно судить по тому, чего он хотел сам. Один только вопрос может найти тут место: имел ли он средства для выражения своей идеи и настоящие ли средства выбрал? Здесь мы действуем не на удачу; мы не переобразовываем явления чужого по своим прихотям, а только смотрим на орудия, которые имел художник, олицетворяя свою идею. В искусствах, говорящих слуху, эти орудия состоят в тонах и словах. В искусствах, говорящих зрению, — в красках и формах. Звуки, слова, краски, формы — все, что видно и слышно, — все только символы идей, символы, рождающиеся в душе художника, когда он входит в священный мир вдохновения. Творения его — также символы, которыми он другим душам передает свою собственную идею. Чем простее и односложнее эти символы, чем больше, чем значительнее их выражение, тем выше художник.
Бесценны те произведения, которых символы, выражая идею художника, радуют чувства сами но себе и отдельно от внутреннего своего значения, как цветы Селама [17] [17]… цветы Селама… — Селам — приветствие; в гаремах селам — особый вид приветствия: посылают цветок, напоминающий известное изречение или стих, который рифмуется с названием цветка.
отдельно от тайного своего смысла, сами по себе красивы, милы и составляют прекрасный букет. Но всегда ли возможно такое слияние? Всегда ли художник свободно выбирает и сплетает таинственные свои цветы? Или собирает он и связывает только то, что должен принять и соединить? На этот вопрос мистической зависимости я отвечаю утвердительно. Художник подобен той персидской принцессе, которая в магнитическом сне прогуливалась ночью в садах Багдада, с глубоким провидением любви срывала чудеснейшие цветы и свивала из них Селам, значение коего она, пробудившись, сама уже не умела изъяснить. По утру сидела она в своем гареме, рассматривала ночную гирлянду, задумывалась над нею, вспоминала ее, как забытый сон, послала наконец к возлюбленному своему калифу. Жирный евнух, относя гирлянду, радовался и дивился прекрасным цветам, не подозревая их значительности. Но повелитель правоверных, обладатель Соломонова перстня [18] [18] Соломонов перстень — легендарный Соломонов перстень считался талисманом мудрости и воплощением волшебной силы.
, Гарун-Аль-Рашид угадал тотчас смысл таинственного плетения: сердце его прыгало от восторга; он перецеловал каждый цветок, и улыбался, и слезы катились по длинной бороде его.
Интервал:
Закладка:
Похожие книги на «Европеец»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Европеец» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Европеец» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.