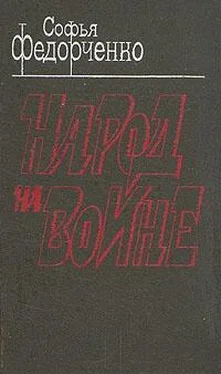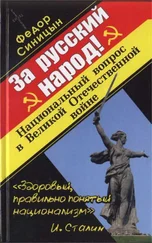«Дайте,— просит,— даром хлеба кусочек, и чтобы не спать мне с вами».
Зашли мы к учительнице. Приветила, товарищами зовет и спрашивает про одного. Мы ей говорим, как и что, как его затомили у врагов и что помер. Она же как бы усмехается и к стенке отваливается. Мы до ней — померла.
Тряпьем закидала, сама сверху легла, дитя кормит. Те в каморку, под кровать лазят, а бабы не тронули. Ушли, вылез он, косточки размял, хлеба забрал, одежду какую,— пошел, не поспасибовал даже.
Глядь, меж городу и лесу барышня маячит в ботичках. Мы до ней, а она усмехается. «Чьи вы?» — спрашиваем. «Я,— говорит,— машинистка, в городе заскучала, буду я вам на машинке печатать». Подошло, машинку ей добыли, стала наши приказы печатать. Сама пишет, сама в город носит, подкидывает. Совсем клад, до того отчаянная. Ушла — да и засыпалась. Тоскуем по ней, до чего верная была машинисточка.
Я на вышку, слышу, ходит лесенка, шагают на смерть мою. И она с ними. Они — ей: «У тебя,— говорят,— здесь коммунист скрывается, признавайся, а то найдем — быть худу». Сорвалось во мне сердце, жду. А она твердо: «Нету,— говорит,— у меня никого». Полезли. Дрожит моя судьбинушка по лесенке, думаю, лучше самому головой вниз. Хочу упасть — не могу. Вдруг как пукнет орудие, ка-ак сыпанут они с лесенки грушами. «А кабы нашли?» — говорю бабочке. «Да,— говорит,— все едино с вами, чертями, не уцелеть...» Веселая.
Заболел я, сдали меня в хатку. Как на другую ночь слышу я беседу сердечную, под бум, под дзынь — враги пришли. Слышу, приказывает хозяин бабе. «Поди,— приказывает,— покличь их: хай нашего героя заберут, чтобы в хате не смердило». Как завопит баба в голос! «Зарежь,— вопит,— не пойду, не отдам молоденького такого врагу на муку! Вспомни-вспомни про сердечного нашего Андрюшечку, может, и он теперь такие речи слышит». Так и не дала.
Я и в тринадцать лет такой же рослый был. Отец на войне санитарил, дома мать да шесть сестер. Во мне вся сила стояла и вся работа тоже. Тут отец вернулся, тут эта своя война. Мы с отцом бабью семью бросили, оба врагов глушим.
И на кого же загляделся я? На офицерскую одну жену, до того горда, и тиха, и красива. Вот не поверю я, чтоб такая да женщина да такого хлюста любила. Думаю, просто хочет с ним за границу выехать, а там сменит его на какого-нибудь большого человека, миллионера, что ли.
Полюбил я одну девицу честную и красивую, высокого роста, чисто полковница. И она меня полюбила за веселость и хороший характер, за непьянство. Тут меня отправляют, тут я ее к матери в деревню не успел, тут он без меня ее по миниатюрам водить стал, пудру дарить. Я вернулся, она на меня фырчит. Споры-ссоры, а поправлять некогда. Так и разбил нас.
«Что же ты,— говорю,— сидишь как чужая, даже и не плачешь?» — «Плачь не плачь,— отвечает,— все равно не жить с тобой, заберут тебя. Так на что,— говорит,— я себе глаза слезами портить буду, мне теперь глаза вот как пригодятся».
Я ей признаюсь, что желанная как бы на всю жизнь. Она в том же признается. Теперь как же и что же делать? Ни у меня попа для ейного спокоя. Ни у меня угла для ейного приюта. А не по такому желанна, чтобы на ночь — да и прочь. Теперь чем в любовь, легче в прорубь,— устроенней.
Если девица хороша, так строго живет, шутить с тобой не станет. У ней красота великая сила, с такой силой ничего девица не побоится. К чему тут ей с нами шутить, как мы за ней и без шутки как на привязи ходим.
Невпопад меня расстреляли, плечо пробили, я затылком через мостик, да на меня двое, головами все мне зубы высадили. Подождал я до ночи, до того кровью сошел — голова гудит. Ночкой полз я червем, встать и боюсь, и не в силах. Да свалился в канавку, просвежел и до жилья дополз. А тут канитель,— кто его знает, жителей-то, в этом жилье. Лежу под порожком, да все пест да пест... Тут голос женский, робкий такой: кто, мол. Не знаю, как сказаться,— пропасть можно. «Раненый»,— говорю. А она: «Да ты, может, расстрелянный? Ползи-ползи,— говорит,— сердечный, мы подсобляем».
Правду сказать, в походе не до любви. А где-нибудь станем, отъешься, да тут еще бабьи слезы, робеют женщины. А это для нас самое валкое и есть.
Как вспомню, так сердце и падает, до чего теперь семья тягчит. Я жену не берег, работа, дети. На войну ушел — совсем отвык. Теперь опять война. Я не скучаю, вольный.
Плачь не плачь, а мне остановки не будет. Поплачем обои, чтобы люди не смеялися, да и прости-прощай, другого привечай. Я под себя перинку не пхаю, моя при людях судьба, чтоб им легче зажилось.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу