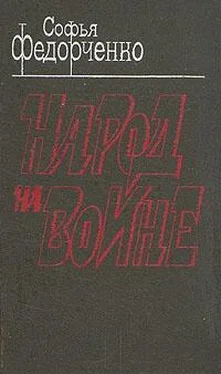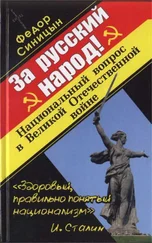Я-то знаю, кому наша доля не мила. Кто смеху нашего, так и то не переносит. Кто при хорошей жизни от нас за духи-запахи бежит.
Вот уж что не просто — это офицеры белые. Ведь они наши командиры были, одну войну воевали. А по войне, как по родне,— всякий брат. Надо ж было им так заслужить, что, кроме желчи, ничего для них у солдата не осталось.
Были и хорошие, да где они теперь, как им веру дать? Чай, хорошие-то с плохими под одной командой Россию продают.
Они думают: мы дурни петые, ничего не видим. Жалованье у офицера невеликое, а как он теперь живет? С коляски не сходит, в шампанском по горло, крашеных девиц на каждую руку по паре. На чьи деньги? На наши.
Иззяб я, синий хожу. Я тепло люблю, да и тощ я в дырки одеваться. Жиру мало, не греет. И видел я шубку на одном поручике, ох! И за что им такое счастье? А за то, что пользу народу наработали — жрут круглые сутки, полные нужники золотом набили.
И газет не надо, и бреши сколько влезет, и все видать! Идешь мимо, не козыряешь, а он не орет. Идешь навстречу, не сворачиваешь, а он не орет. Яблоки он рассыпал, так сам и подобрал. Завтра драпать будут, увидишь.
Жены у них красивые бывают, но плохие очень, злые какие-то. Говорит так, как змея шипит, смеется,
будто ее щекочет кто. Шипит на нас, смеется с хахалями, делать же ничего не делает. Рожу выкрасит, духами зальется, взялась под ручку и пошла задом крутить. Тьфу!
Есть и меж нас ихней сестры любители. Ясно, от такого всего ждать можно — еще перебежит под чью-нибудь юбку.
Генерал — это уж вроде бога Саваофа, самый главный. На нас он, бывало, и не глядел поодиночке, целыми частями только и замечал нас. Мы ж к нему хорошо присмотрелись.
Противу немца, что велено, геройствовали. А своего врага сам выбрал, тут баловаться некогда.
Это хорошо, да и то, мол, неплохо. Эдак и глаза раскосить можно. А знай твердо, кто враг,— тогда и путь виден.
Доброволец нам не родня. Он те и крест, и часы дает, и землю сулит. А ты ему веры не даешь: чужое семя.
Стоим мы двое на часах, охраняем. Только и солнышко еще на всходе, шасть господин полковник и с ним еще какие-то два. И прямо к кассе. «Никак,— говорим,— нельзя»,— и винтовочки навели. А они: «Ма-алчать, в порядке эвакуации!» Мы бровей друг дружку: «Эге, мол, коли эвакуация, так нашим тоже казна пригодится, а коли нет — так за грабеж». И всех пристрелили. И вправду была эвакуация.
Снес я его чемодан, он приказывает: «Сядь на чемодан, жди, никому места не уступай». Только он от меня, как генерал ко мне и «вон!» кричит. Я ему доложил: чемодан, мол, полковника. А он — «вон!», да и все. Выдрал у меня чемодан и свою генеральшу на него усадил. Ну, думаю, тут дожидаться не приходится. Пусть сами разберутся. Да и утек на берег. Не привелось по Европам прокататься.
А тут иностранцы всех сортов оружия со всей Европы. Смешалися языки — к офицерам приехали, а к нам ходят. Тут эвакуация, тут нам местечка не достало, на берегу осталися мы, и стали каждый себя проявлять по-своему. Всё видать стало. Иван себе с барынь до дюжины колечек дорогих насобирал — за необиду, за вещи ихние, что пропускал, а то и сдерет кольцо-то. А другой наш так из гостиницы генеральшу к мужу на пароход не пустил. Так и осталась она на берегу с нами. А я не пользовался, рот на интересное раззявил.
Раскрыл рубаху, кажет грудь: «Привел,— кричит,— я вас на худое дело, на плохое место! Какие мы добровольцы, не могу я теперь живым быть, пробью,— кричит,— грудь свою!» И застрелился. А застрелился — и нас освободил, ушли мы.
Держит он меня за руку, вежливо говорит. А меня ажно тошнит, до того я на немецкой войне офицеров невзлюбил. Мне от них и хорошее плохо.
Скажу правду: все звери теперь, все лютые. Да только и зверь в своем гнезде теплом дышит, гнезда же у нас с ними разные.
Глянул я на беляков — одни начальствующие. Сам себя в бой посылает, сам от себя дезертирует. Чего там навоюешь?
Может, не все богатые враги, а почти что. Головка у богатого, может, и по-нашему думает, а сердечко по жирному куску тоскует.
Мы в скирде. «Гори,— кричат,— краснее, на то вы и красные».
У меня отец бомбы начинял, так мне ли эту белую моль жалеть?
Я скажу: белые хуже всех били. Били-били, в четырех местах левая моя нога перебита. Правая заплесневела. Просил смерти — не дали, время у них не хватило, наши подошли.
Думаю, ошибется, к матери забежит. Стерегу. Забежал-таки! Я за ним, в охапку сгреб, в отопление, завязал всего. Ну и натешился я над врагом!..
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу