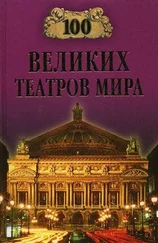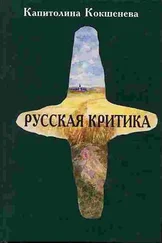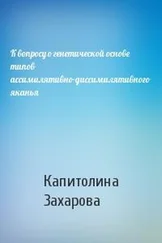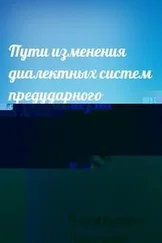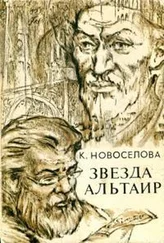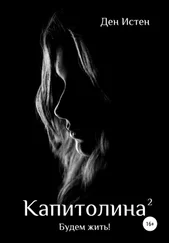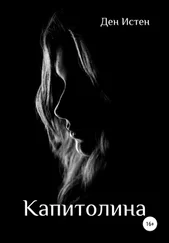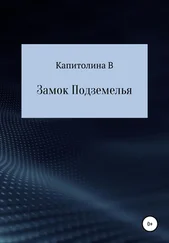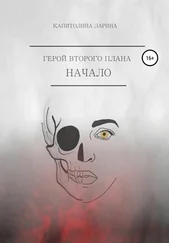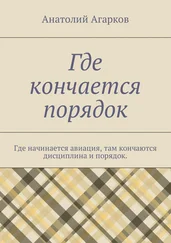Сегодня сами культурные группы определяют (или не определяют) цели своей культурной деятельности. Все зависит от взгляда. Но, как известно, один взгляд у человека, который идет за плугом (взгляд от земли), другой взгляд у обращенного к небу во время молитвы, третий — рыскающий по прайс-листу рыночной культпродукции.
Для меня актуальным и определяющим в литературе остается все то, что связано с традицией, с обновлением ее, — ведь «подлинное обновление и есть способ существования традиции, раскрытие того, что еще не раскрыто, но пребывает в глубине народного духа» (Н.П. Ильин). Этим талантом обновления традиции и умением удерживать русский дух в литературе обладают Геннадий Головин, Олег Павлов и Вера Галактионова, Владимир Личутин и Николай Калягин, Леонид Бородин и Василий Дворцов, Лидия Сычева и Зоя Прокопьева, Петр Краснов и Борис Агеев, Александр Сегень и Михаил Тарковский, Виктор Николаев и Анна и Константин Смородины, Николай Зиновьев и Николай Рачков. Именно они утверждают своим творчеством русский тип прозы.
— Сколь велико влияние литераторов почвеннического направления на современное российское общество, на политическую ситуацию? В чем оно выражается?
— Духовное влияние очень трудно уловить и понять именно в современности: где они, эти измерители духа? Смешно таковыми считать рейтинги. Тем не менее, культурные и общественные победы почвенников заметны и очевидны. Именно в среде национально-мыслящей интеллигенции были предприняты усилия по установлению государственного статуса исторической имперской символики (державный орел, цвета флага и др.), по осмыслению целостности русской истории, по возвращению имен многих русских философов, общественных деятелей и писателей, которые не были атеистами. Первые воскресные школы при православных храмах тоже создавались усилиями этой интеллигенции еще на излете советского времени. Впрочем, самоисчерпанность реформистского и постмодернистского проектов в литературе — тоже аргумент в пользу почвенной самостоятельности. Другой вопрос, что плоды деятельной интеллектуальной работы почвенников присваивались реформаторами — на этом стояла ельцинская эпоха.
— Ильин — идеолог русского почвенничества.
— Нынешнее понимание влияния достаточно простенькое: главное — быть VIP-персоной, мелькать в СМИ, в политических, молодежных и прочих тусовках. Если прежде миром управляли идеи и люди готовы были лично их защищать, то сегодня миром управляют технологи, менеджеры и операторы, и обнаружить присутствие личных ценностей у завсегдатаев всяческих ток-шоу просто невозможно. Почвенническое направление практически не присутствует в пространстве СМИ. И причина здесь не только в массированной поддержке примитивного «кодекса либерала», будучи верным которому попадаешь в шоу к Ерофееву или в программу Архангельского. Ни в одном ток-шоу никогда, по определению, не могла ставиться и не ставилась цель выявить правду, показать не ложное, а подлинное разномыслие, которое (в отличие от ложного) создает реальный объем дискуссии, будь то вопрос о свободе, о «Черном квадрате» Малевича или выставке «актуального искусства». Им это не надо, так как требуется совсем другое. Во-первых, востребованы парадоксальные (а по сути, провокационные) темы — соединить в одной передаче проблему тусовки и гражданского общества, закончив ее обсуждение сногсшибательным выводом, что «тусовка — это имитация империи». Этот же пример говорит и о второй цели: подмене ценностных понятий, разрушении устойчивых позитивных образов. Но реальность-то такова, что именно в России не удалось, несмотря на неимоверные усилия и большие финансовые влияния, превратить понятие-образ «империя» в негативный тоталитарный бренд, а потому делается тихая работа по снижению и опошлению исторического смысла — империя компрометируется тусовкой, и образ этой жирной, лоснящейся, самодовольной тусовки психологически переносится на понимание империи. Так работают операторы.
Когда был создан телеканал «Звезда», у национальной интеллигенции появилась надежда. Лично я предложила несколько передач, в том числе и «Литературную правду», и «Территорию смысла», куда можно было бы приглашать ярких и умных писателей, публицистов, историков. Увы, предпочли серость, вместо того чтобы действительно представить новые имена и свежие идеи, оказались в зависимости от рынка, ушли от современности, ведь показ даже очень хороших советских фильмов не способен заменить актуальные проблемы дня нынешнего. Ностальгия — не лучшее состояние для народа, намеренного и дальше жить.
Читать дальше