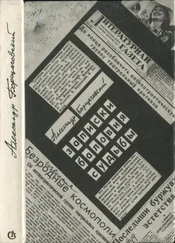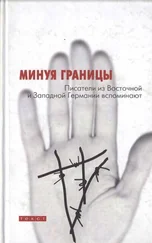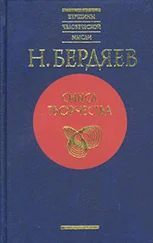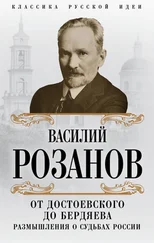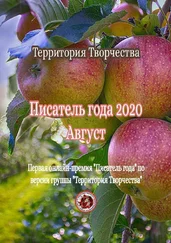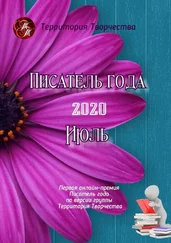______________
* Стэйзи Шифф. Вера. Москва 2002.
** Горенштейна восхищала литературная "предприимчивость" Набокова. В одном письме, адресованном мне, он излагает придуманную им теорию эволюции, и просит держать идею в секрете. "Впрочем, добавляет он, - может, я преувеличиваю опасность. Набоков умер, а кому еще придет в голову воспользоваться подобным сюжетом и заработать 10 миллионов". Горенштейн ошибся в количестве миллионов, их было у Набокова стало гораздо больше. Однажды Горенштейн признался мне, что "Чок- чок" он задумал, следуя примеру Набокова, то есть рассчитывая на коммерческий успех, но идея его оказалась не столь оглушительной. Здесь следует еще учесть, что Набоков использовал тему, которую до него в такой форме еще никто не использовал. Хотя можно вспомнить "Бесов" и ее последнюю, кстати, запрещенную до революции и в советское время также, главу "У Тихона", где Ставрогин соблазняет девочку. Недаром Грэм Грин сравнил роман Набокова "Лолита" с "Бесами".
***
Однако вернусь к политически скандальным, вернусь к Эткинду, человеку с внушительным диссидентским досье, "спасшему" двух будущих Нобелевских лауреатов - Бродского и Солженицына, и заслужившему их неблагодарность*. Мне об этой неблагодарности (особенно со стороны Солженицына) известно от Эткинда лично, с его собственных слов.
______________
* Издевательства над собой в книге "Записки незаговорщика" Эткинд справедливо назвал "Гражданской казнью".
В октябре 1996 года мы вчетвером (Фридрих и я с мужем и сыном) были в Потсдаме в гостях у Эткинда и его жены Эльки Либс-Эткинд (германиста, профессора Потсдамского университета; они были женаты тогда уже три года). Мы сидели на балконе за небольшим круглым столом, и Фридрих впервые тогда признался, что оплакивает своих умерших героев. Впоследствии мне довелось самой видеть, как писатель оплакивал - по лицу его текли слезы - смерть одного из героев только что написанной им пьесы: это были слезы по Василию Блаженному. Надо сказать, я заметила однажды слезы и по умершему Ивану Грозному, но писатель заверил, что эти слезы мне привиделись. Он мне так и сказал: "Я оплакивал только Василия Блаженного, а Ивана Грозного - нет. Вам показалось!" Речь идет здесь о двухтомных "Хрониках времен Ивана Грозного", изданных в Нью-Йорке в 2002 году. Горенштейн читал в нашем присутствии сцены из книги (мы с Борей их записывали для издательства на магнитофонную ленту в течение целого года по воскресеньям - у писателя был нечитаемый почерк) и по мере ухода навсегда некоторых героев со сцены оплакивал их и при этом оправдывался: "Когда я создаю эти образы, я чувствую себя выше их - я их создатель - и не плачу. Я плачу только после написания, когда уже над ними не возвышаюсь".
Помню один наш такой спор. Гореншейн стоит в проеме кухонной двери и жалуется на меня моему сыну Игорю, к которому относился с нежностью и называл "чеховским интеллигентом": "Ваша мама говорит, что я плакал из-за Ивана Грозного, а это неправда!". "Правда, правда, вы оплакивали это чудовище!", - говорю я. "Это неправда! Я плакал только из-за Василия Блаженного!" Он не смог признаться и самому себе, что проливал слезы над своим детищем-монстром. Между тем, для писателя ситуация "убиения" необычайно драматична, он как будто хоронит собственного ребенка. Флобер плакал навзрыд над покончившей собой Эмой Бовари, а Набоков оплакивал последнюю встречу Гумберта с Лолитой.
На балконе у Эткинда, на фоне старой липы с могучим стволом и ветвями, осыпанными золотыми осенними листьями, легко рассказывалось о тайнах творчества. Фридрих говорил, что по мере приближения конца произведения, понижается "статус" писателя по отношению к созданным образам, и, наконец, он перестает быть творцом. И тогда появляются слезы. Эткинд переводил рассказ Фридриха о проливаемых слезах Эльке, и я видела, что эта исповедь произвела на нее большое впечатление.
Эткинд тогда с артистизмом прирожденного импровизатора рассказывал сюжетные литературные истории, в частности, захватывающую, "детективную" историю о Татьяне Гнедич, праправнучатой племяннице переводчика "Илиады", переводившей по памяти (без книги) в тюрьме "Дон Жуана" Байрона - семнадцать тысяч строк. Оказалось, что Татьяна Григорьевна в 1957 году по возвращении из лагеря жила в коммунальной квартире у Эткиндов на Кировском проспекте 59.
В тот вечер Эткинд и рассказал нам о заявлении Солженицына: "И надо же мне было до такой жизни дойти, что я вынужден был принимать помощь у еврея!" То есть у Эткинда. Который из-за Солженицына был выслан из России. Это притом, что Солженицын подтверждает: "Сам Е. Г. Эткинд был в дружбе со мной неотрицаемой, к моменту высылки уже полных 10 лет... и изо всех действующих лиц... только он еще получил открытое сотрясение, публичное бичевание и вытолкнут за границу"*. В рассказе "Русский писатель и два еврея" Эткинд писал: "Странно, что Солженицын не увидел солидарности тех, кто причастен к культуре, не оценил независимой от состава крови потребности интеллигенции к взаимоподдержке. А ведь именно такая солидарность увенчала автора "Ивана Денисовича" Нобелевской премией, помогла ему преодолеть изгнание и победителем вернуться в Россию". Заграничные привилегии Эткинда профессорство в Сорбонне, Золотая пальмовая ветвь, мировое признание и все остальное не вернули ему ни покоя, ни удовлетворения, как, подозреваю, не вернули страдальцу Иову покоя и удовлетворения новое богатство, взамен старого, и другое потомство, взамен бывшего. Книга Эткинда "Записки незаговорщика", написанная с пронзительным, невероятным для публицистики лиризмом, свидетельствует о том, что рана его так никогда и не зажила.
Читать дальше