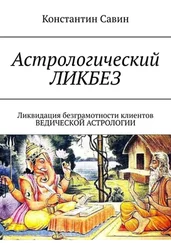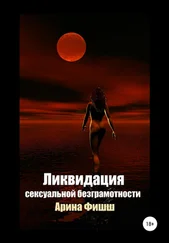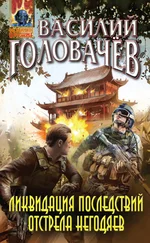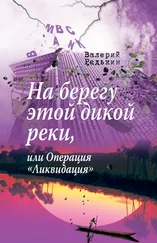Вот и Берия в своем дневнике 1 января 1945 г. пишет: «Для меня война не кончается и уже никогда не закончится. Второй такой не выдержу, а какая-то все равно будет» ( Берия Л.П. Второй войны я не выдержу. Дневник с комментариями С. Кремлева [1941–1945]. С. 185). Какая же это должна была быть война и за что? И главное – с кем?
Ответ на этот вопрос помогает найти другая запись из того же дневника, сделанная в конце марта 1945 г.: «Вопрос проливов (черноморских. – В. К .). Это спор с Турцией. И Коба не знает, можно ли будет удержать Иран (имеется в виду северная половина этой страны, занятая советскими войсками еще в августе – сентябре 1941 г. – В. К .)?.. Дальше Китай. Там тоже теперь по-другому будет… С Японией надо воевать (в скобках заметим: в дневниковых записях – ни слова о каких-либо проявлениях враждебности со стороны Японии, да и не до этого ей в марте 1945 г. было. – В. К. )… Финляндию тоже отдавать нельзя…» (Там же. С. 193).
Итак, не считая государств Восточной Европы, речь как минимум о пяти странах (точнее, о четырех континентальных и одной островной – Японии); совместно с Восточной Европой указанные страны составляют практически все сухопутное окружение СССР. Но дело даже не в этом.
Если Восточная Европа и Финляндия достались СССР как «трофей» в ходе Второй мировой войны, а на получение хотя бы части Японии по состоянию на весну 1945 г. можно было надеяться, приняв участие в завершающих операциях войны на Тихом океане (о чем еще в ноябре 1943 г. в Тегеране, а окончательно в феврале 1945 г. в Ялте была достигнута договоренность – и в самом деле, попытку захватить остров Хоккайдо Сталин предпринял), то «решение вопросов о проливах» с Турцией и особенно проблема «удержания» Северного Ирана неминуемо означали конфронтацию с США и Британией, учитывая рост влияния последних в этих странах начиная с 1942–1943 гг.
С Китаем пока сохранялась неопределенность, но и там уже можно было вслед за Берия повторить, что «там тоже теперь по-другому будет». Уже в конце 1945 – начале 1946 г., как пишет в своих мемуарах бывший советский дипломат, много времени проработавший в Китае, «правительство /Чан Кайши/ понимало, что оно не может полагаться целиком на экономические связи с США (при восстановлении разрушенной войной экономики страны . – В. К. ) по политическим соображениям – это вызвало бы неблагоприятную для Китая реакцию со стороны Советского Союза» ( Ледовский А.М. СССР и Сталин в судьбах Китая. М., 1999. С. 8). Кстати, интересно, а почему это суверенный Китай не может сам решать, на чью помощь ему при восстановлении экономики опираться? Только потому, что советские войска в Китае появились раньше американских – в августе 1945 г., а в Синьцзяне так вообще с 1930-х гг., тогда как первые американские воинские контингенты высадились в Таку (близ Тяньцзиня) только 30 сентября 1945 г. ( Астафьев Г.В . Интервенция США в Китае. 1945–1949. М., 1985. С. 36)?
Но о Китае речь впереди. Пока отметим некоторые другие внешнеполитические шаги СССР. Например, уже в июне 1945 г. СССР начал реализовывать те планы, о которых 25 марта пишет Берия в дневнике – он потребовал от Турции вернуть Карс и Ардаган (отошедшие к ней в 1921 г.) и пересмотреть конвенцию о Черноморских проливах. А еще до того, 19 марта, Советский Союз в одностороннем порядке денонсировал договор о дружбе и ненападении от 17 декабря 1925 г. как «не соответствующий новой обстановке и нуждающийся в серьезных улучшениях» ( Закорецкий К . Третья мировая война Сталина. М., 2009. С. 36). 7 августа 1946 г. советское требование к Турции о пересмотре режима Проливов было повторено (там же, с. 329). С целью получить законное право на проход через Проливы без разрешения Турции СССР на Парижской мирной конференции (июнь 1946 – февраль 1947 гг.), посвященной выработке мирного договора с бывшими союзниками нацистской Германии, советская сторона предъявила претензии на бывшую итальянскую колонию Ливию. Лишь 12 декабря 1946 г. СССР отказался от территориальных притязаний на эту страну (Там же, с. 326).
Но история показывает, что подобные претензии надо чем-то подкреплять, лучше всего – военной силой. А между тем Советская Армия с момента окончания Второй мировой войны (и даже чуть раньше – с июля 1945 г.) до 1948 г. непрерывно сокращалась. Однако о численности армии мы еще скажем, а пока отметим: зато делалось много чего диаметрально противоположного в области вооружений. Так, 19 января 1946 г., то есть после окончания войны и вроде как бы наступления мира, в СССР создан Наркомат (вскоре переименованный, как и другие наркоматы, в Министерство) строительства военных и военно-морских предприятий ( Закорецкий К . Третья мировая… С. 326). Очевидно, немало их планировалось построить, раз целое министерство создали!
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
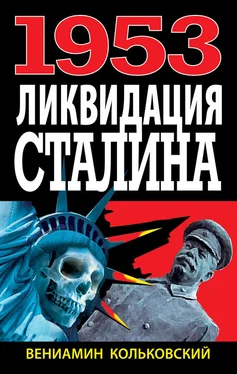
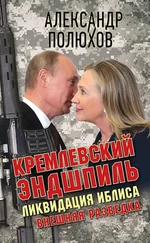
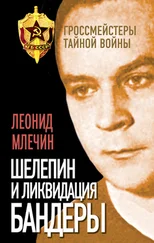


![Игорь Манн - Ликвидация [22 способа продать непроданное и непродающееся]](/books/409211/igor-mann-likvidaciya-22-sposoba-prodat-neprodan-thumb.webp)
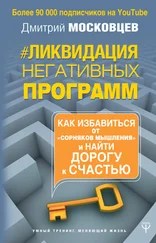
![Андрей Земляной - Сын Сталина - Рокировка. Сын Сталина. Джокер Сталина [сборник litres с оптимизированной обложкой]](/books/414508/andrej-zemlyanoj-syn-stalina-rokirovka-syn-stalin-thumb.webp)