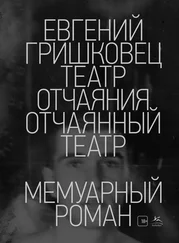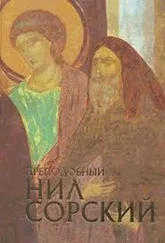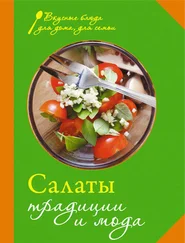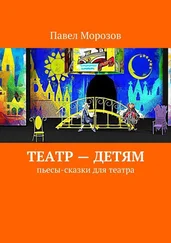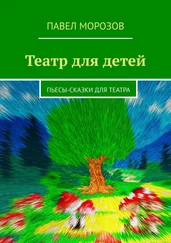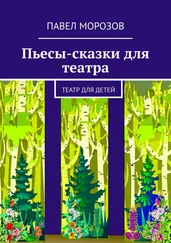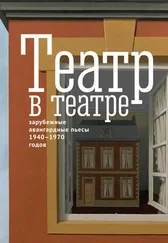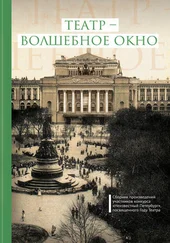В средние века, когда Плавта знали вообще весьма плохо (в Италии, где впоследствии родилась и процветала духовно близкая Плавту комедия del'arte, было известно только 8 пьес), безвестные переписчики создали рукописи Палатинской семьи, названные так по одноименной библиотеке в Гейдельберге, где они хранились до того времени, когда большая часть этой библиотеки была подарена папе первым баварским императором Максимилианом. Палатинские рукописи Плавта, восходящие к другому античному изданию, нежели Амброзианский палимпсест, и дающие таким образом возможность устанавливать путем сравнения оригинальный древнейший текст, содержат все комедии, которые Варрон счел безоговорочно подлинными, большинство - целиком и несколько - в больших отрывках, позволяющих судить о всей пьесе. Эти кодексы сотни лет пролежали в недрах библиотеки и были в конце концов найдены в 1429 году выдающимся немецким гуманистом Николаем Кузанским и переданы кардиналу Орсини, который сделал их достоянием общественности. С этого момента начинается новая история Плавта, обработка его текстов филологической и литературной традицией нового времени, продолжающаяся и по сей день. Плавт послужил образцом для Мольера и Шекспира; Германия и Англия гордятся своими школами плавтинистов; о Плавте существует необозримая литература; он переведен и продолжает переводиться на самые разные языки и его пьесы до сих пор выдерживают театральные постановки. В России Плавтом занимались лучшие филологи-классики: статьи Ф.Ф. Зелинского и работа Я.М. Боровского над текстами Плавта относятся к вершинам нашей науки.
Мы предвидим, что такой впечатляющий интерес европейской науки и культуры к плавтовскому наследию может вызвать у современного читателя некоторое недоумение. Действительно, перед неискушенным взглядом, пытающимся охватить весь театр Плавта, начнет в стремительном темпе проноситься бесконечная вереница удручающе однообразных фигур: Харин ("Купец"), Агорастокл ("Пуниец"), Филолахет ("Привидение"), Калидор ("Псевдол"), Плесидипп ("Канат"), Плевсикл ("Хвастливый воин") и т. п. - все эти молодые влюбленные с труднозапоминающимися именами (римлянам, недавно столкнувшимся с греческой цивилизацией было тоже трудно их запомнить, и наш автор частенько переводит для своих зрителей интересные значимые имена), счастье которых является предметом и целью драматической интриги, могут своей безликостью поспорить только с плавтовскими же девицами. Индивидуальность этих персонажей сведена к нулю, и тем, кто пытается определить хронологию пьес по развитию заданных ролей, по динамике образа, остается только развести руками.
С другой стороны, предваряющая комедии экспозиция поражает своей подчас необычайной замысловатостью. _Из двух двоюродных братьев - карфагенян, родовитых и богатых, один умер. Похищение семилетнего сына привело отца к тяжелой болезни и смерти через шесть лет после этого события. Наследником был назначен двоюродный брат умершего. Похититель увез мальчика в город Калидон и продал его там богатому старику, охочему до юнцов. Тот, будучи другом отцу ребенка, не знал, кого купил, но усыновил мальчишку и сделал его наследником. У другого старика-карфагенянина было две дочери. Они также были похищены вместе с кормилицей и проданы своднику в город Анакторий. Сводник приехал в Калидон повыгоднее поместить свой "капитал". Юноша влюбился в одну из девиц, старшую, но сводник водит его за нос и хочет заодно продать младшую наложницей какому-то приезжему солдату. Тут в Калидон прибывает старик-карфагенянин, объезжающий все страны в поисках дочерей_ ("Пуниец").
Даже изложенный последовательно неспешной прозой, этот сюжет, прозрачно предваряющий счастливую развязку, нелегко ухватить, а в балагурно-быстрых стихах плавтовского пролога, да еще в самом начале представления, когда кругом рассаживаются и толпятся зрители, понять всю подоплеку с первого раза почти невозможно, и поэтому вопрос Плавта к публике: "Ну что, ухватили суть?!" выглядит почти издевательским.
Начинается комедия "Купец": раб Аканфион бежит исполнять поручение хозяина, ловко врет, и мы уже ждем забавных результатов этого вранья, как вдруг слуга исчезает со сцены и оказывается, что дальнейшее развитие определяется действиями отца и сына, перекупающих и переманивающих друг у друга девицу. Следить за ходом пьесы мешают постоянные диалогические ретардации, разговоры старика с девицей, поваром, перебранка мужа и жены и пр. Видимо, автора совершенно не заботит соразмерность частей, стройность композиции; да и сама интрига, призванная держать публику в постоянном напряжении (тем более что антрактов плавтовский театр не знал), далеко не всегда волнует нас неожиданными ходами. В целом ряде комедий действие идет вяло, а в пьесе "Стих" вообще отсутствует фабула.
Читать дальше