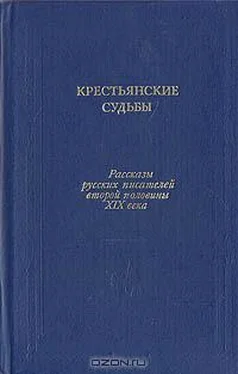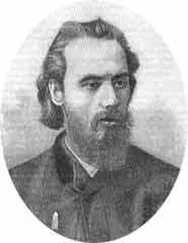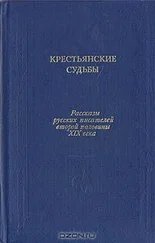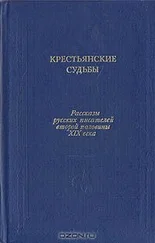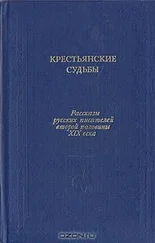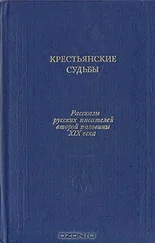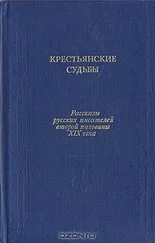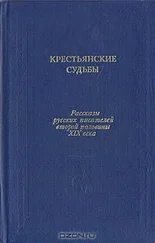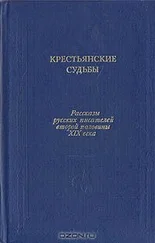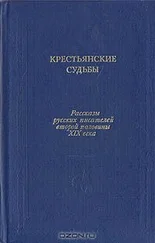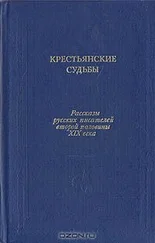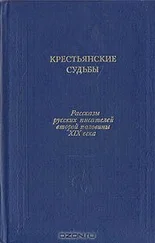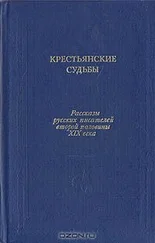Другая часть пахотныхъ земель — это тѣ мѣста, которыя почему-либо остались незахваченными, вслѣдствіе-ли отдаленности ихъ, или вслѣдствіе другихъ какихъ причинъ. Крестьяне называютъ ихъ «вольными», потому что ихъ каждый имѣетъ право брать въ пользованіе, хотя въ большинствѣ случаевъ съ извѣстными ограниченіями, на извѣстное только число лѣтъ. Міръ этими землями распоряжается уже фактически; не стѣсняя въ захватѣ ихъ на извѣстное число лѣтъ, онъ при случаѣ отбираетъ ихъ. Прирѣзки производятся на счетъ этихъ вольныхъ земель, а не на счетъ подворныхъ участковъ; послѣдніе крестьяне не трогаютъ, боясь путаницы. Такимъ образомъ, вольныя земли практически являются общинными; когда нѣтъ нужды, ими пользуется всякій, кто въ силахъ, а когда необходимо, міръ дѣлитъ ихъ, какъ это мы и видѣли, на лугахъ, которые крестьяне вздумали-было обратить въ пашни.
Сѣнокосы также по существу двухъ родовъ.
Одни, находящіеся по близости деревень или особенно цѣнные, хотя и удаленные отъ деревень, ежегодно передѣляются по числу душъ, причемъ самый механизмъ раздѣла ничѣмъ не отличается отъ способовъ дѣлежки въ русскихъ губерніяхъ.
Другіе принадлежатъ къ вольнымъ лугамъ. Всего чаще сѣнокосы эти расположены на тѣхъ вольныхъ земляхъ, о которыхъ только что сказано: между, кустарниками и по залежамъ, съ незапамятныхъ времемъ не знавшимъ сохи. По мелочамъ здѣсь всякій можетъ косить; возъ-два не запрещаются. Но большее количество сѣна уже- входитъ въ сферу вмѣшательства міра. Обыкновенно въ такомъ случаѣ практикуется слѣдующій порядокъ.
Общимъ голосомъ деревни назначается день захвата этихъ вольныхъ сѣнокосовъ, и рано утромъ въ назначенный день всѣ наличные работники собираются въ условномъ мѣстѣ за деревней. Когда всѣ уже въ сборѣ, подается сигналъ, и вся масса косцовъ, сломя голову, скачетъ къ мѣстамъ сѣнокоса, гдѣ каждый и коситъ, сколько успѣетъ и сможетъ, для чего каждый предварительно закашиваетъ косой такой кругъ, какой успѣетъ. И вотъ этотъ-то кругъ считается уже его собственностью. Извѣстно, что порядокъ этотъ свойственъ не одной Сибири, но, напр., является распространеннымъ обычаемъ среди уральскихъ казаковъ, которые, въ свою очередь, также, вѣроятно, не первые выдумали его. Въ Сибири, въ описываемыхъ здѣсь странахъ, онъ, должно быть, скоро отойдетъ въ область преданія, потому что частыя ссоры, переходящія въ драки, всѣмъ крестьянамъ наскучили. Медленно, но изъ года въ годъ этотъ, такъ сказать, безпорядочный порядокъ замѣняется ежегоднымъ дѣлежемъ по всѣмъ правиламъ деревенскаго землемѣрнаго искусства.
Выгоны или какъ ихъ здѣсь называютъ «поскотины» (подъ скотины) находятся въ общемъ пользованіи. Міромъ нанимаютъ пастуха для каждаго стада, и онъ пасетъ порученный ему скотъ въ поскотинахъ. Но пастьба длится здѣсь только до «бызовки» {Это оригинальное слово звукоподражательнаго характера. Ко времени наступленія жаровъ, когда появляются оводъ, слѣпень и другія жалящія насѣкомыя, издающія извѣстный звукъ, скотъ отбивается отъ рукъ; заслышавъ страшный для него звукъ, онъ въ бѣшенствѣ кидается въ разсыпную, и никакая сила уже не удержитъ его. Все это вмѣстѣ и называется «бызовкой».}.
Бызовка дѣлитъ выгоны на два разряда. О первомъ мы сказали. Второй состоитъ вотъ въ чемъ: когда начинается бызовка, стада разбираются по рукамъ и каждый владѣлецъ скота пасетъ своихъ животныхъ отдѣльно, или отправляя ихъ на заимки, если онѣ у него имѣются, или на тѣ собственные участки, которые расположены близь деревни. Затѣмъ, когда жаръ спадетъ, оводы пропадаютъ, скотъ опять собирается въ стала и пасется по скошеннымъ лугамъ лѣтомъ и на пашняхъ въ началѣ осени. Понятно, что тамъ, гдѣ, по мѣстнымъ климатическимъ условіямъ, оводъ не производитъ такого вреда, скотъ все лѣто пасется въ стадахъ на общинныхъ земляхъ.
Огороды не имѣютъ большого значенія здѣсь, не представляя существеннаго элемента хозяйства. Но, тѣмъ не менѣе, они въ большинствѣ хозяйствъ имѣются. При этомъ тѣ огороды, которые непосредственно примыкаютъ къ деревнѣ, состоятъ въ наслѣдственномъ пользованіи каждаго дома и совершенно изъяты изъ сферы власти міра; они никогда не передѣляются, не отрѣзываются и не прирѣзываются, да, по своей незначительности и ничтожной роли въ хозяйствѣ, этотъ родъ угодій никогда и не вызываетъ недоразумѣній; только бабы иногда возбуждаютъ по поводу капустниковъ пререканія между собой. Когда же является надобность отрѣзать мѣсто подъ огородъ для новаго хозяйства, то пустопорожнее мѣсто всегда находится возлѣ деревни.
Читать дальше