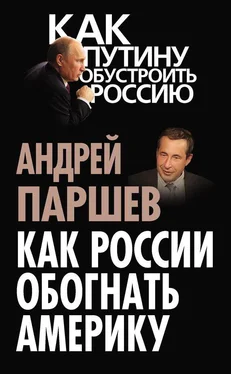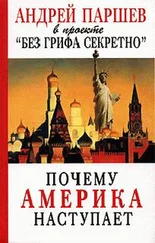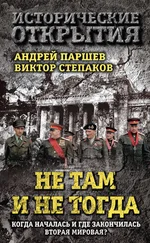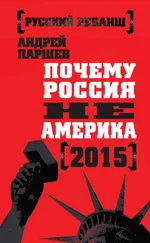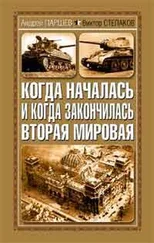Повторюсь, дело не в том, что в бюджете есть средства, а тот же Улюкаев не хочет их давать. В принципе, зампреду ЦБ ведь можно было и не выступать. А действовать так, как обычно действуют. Ну берешь и печатаешь себе необеспеченные денежки. Но ведь экономика — это вещь материальная, а деньги — это больше некая расчетная единица. Конечно, их можно напечатать, чтобы раздать тем же пенсионерам. Но при этом цены будут расти. Можно пытаться регулировать цены на гречку или хлеб. Мы такое уже проходили. Если товаров мало, а цены на них жестко контролируются, то тогда их просто не будет в магазинах.
Главная проблема заключается в том, что у нас не создана производящая экономика. А это не делается за несколько месяцев в пожарном порядке. В этом плане то, что называется «бюджетной революцией», — это на самом деле никакая не революция, а скорее «бюджетная капитуляция». А вот чтобы избежать последней, как раз и нужна экономическая революция.
Если кто-то ждет от меня конструктивных предложений на этот счет, пусть съездят в Белоруссию и посмотрят. Не имея собственных нефти и газа и покупая их у России, эта страна живет так, как она живет. Сейчас модно говорить, что это Россия все годы субсидировала белорусскую экономику за счет льготных цен на энергоносители. Но ведь как бы то ни было, белорусы наши нефть и газ покупали, то есть тратили деньги, а мы их продавали, то есть зарабатывали на этом. Но при этом у них на полную мощность работает реальный сектор. Если говорить в двух словах, в Белоруссии государство занимается вопросами производства и, что немаловажно, вопросами реализации готовой продукции. Возьмем сельское хозяйство. Минск решил вопрос с реализацией сельхозпродукции. У нас этим занимаются перекупщики, и происходит убийство сельхозпроизводителя. Если бы государство помогло последним выходить на рынок напрямую, чтобы сбывать свою продукцию, это уже отчасти решило бы проблему с ростом цен на продовольствие.
А все началось с концепции либеральной экономики, которая непонятно почему была так популярна в нашей стране в 1990-е гг. Она сводится к тому, что не надо ничего делать, поскольку все должно происходить само по себе благодаря «невидимой руке рынка». В итоге мы пришли к необходимости «бюджетной революции» по Улюкаеву. Как говорится, больному стало легче, и он перестал дышать.
Почти одновременно с Улюкаевым показательное заявление сделал заместитель министра финансов РФ Сергей Шаталов, — он сказал, что российские власти могут пойти на увеличение налогов: «Я думаю, что в ближайшие годы тренд уже определился. Мы вышли на траекторию повышения налогов». В качестве некоторого извиняющего (или смягчающего) обстоятельства этого решения можно отметить, что экономика работает небыстро. То есть сегодня мы сталкиваемся с последствиями экономических решений, которые были приняты и выполнялись не в 2010 году и даже не этим составом кабинета министров. Можно сказать, что сейчас правительству приходится расхлебывать последствия тех решений, которые были приняты десятки лет назад.
Нужно отдавать себе отчет в том, что на протяжении последних 20 лет наша экономика функционировала в режиме, который на Западе называется «мобилизационной экономикой». Конечно, это не та модель, о которой говорит Глазьев. Речь идет об экономике, условно говоря, военного типа. Поясню, что я имею в виду. Это когда включается режим экономии и не происходит инвестирования в инфраструктуру, промышленность и сельское хозяйство. При этом все ресурсы, которые извлекаются из экономики, идут на решение какой-то одной главной задачи. Например, на военное производство во время войны.
В России также сложилась достаточно специфическая ситуация. В целях получения социальной поддержки т. н. «реформ» все ресурсы направлялись на проедание и поддержание жизненного уровня. Приведу такой пример. В Германии во время войны результаты мобилизационной экономики буквально бросались в глаза немцам. Потому что у них было принято красить здания раз в три года, а во время войны они были вынуждены обходиться без этого, что давало определенную экономию средств, но скоро отразилось на облике городов и было, что называется «на виду». Поскольку в России нет такого немецкого аккуратизма, состояние зданий нам, может быть, не так заметно. Зато периодически напоминает о себе плачевное состояние нашей коммунальной инфраструктуры. Протяженность всех российских трубопроводов разного назначения, наверное, составляет расстояние от Земли до Луны. Но трубы находятся в земле, и их не видно. Поэтому где-то можно просто сделать заплатки, а где-то пустить по поверхности дублирующую трубу (когда та, которая под землей «отдала концы», а менять ее так, как положено, слишком накладно).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу