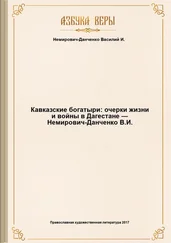А как хорошо здесь! Именно прелесть несказанная, как говорят монахи. Птицы заливаются в чаще. Зеленую листву сплошь засыпали цветы, как будто только и ждали дождя, чтобы распуститься. Так бы и ушел сюда забыться от тьмы и зол, отдохнуть душой от подлой клеветы. Где-то ручей звенит, точно в душу к тебе просится, ласково, ласково. От этой пустыньки — просека к берегу Донца.
Словно заснул Донец. Лень ему всколыхнуться… Серая ящерица спешит поскорей зарыться в песок. Скользнула рыбка над водой и опять бултых в нее. Где-то кусок берега в воду рухнул, глухо… Зыбь пошла… А птицы заливаются все громче и громче, все задорнее. Вся природа полна жизнью и счастьем — рядом с этим царством смерти и покоем могилы!
Нет, противны мне, живому, эти обители святые! Не глядел бы на них.
Когда мы всходили на противоположный скат, по нему вниз катились казак с казачкой, оба старые-престарые.
— Что вы опять, рабы? — спрашивает мой спутник.
— Опять, отче, опять.
— Трудно.
— Богу трудимся. Дает Господь сил.
— Поверите ли, двое этих вот уж второй месяц по этой горе в день десять раз, вверх и вниз. В том все свое время препровождают.
— Что же это они?
— По обету. Тут над ними смеются, а я не смеюсь. В чем бы душа ни находила мир и успокоение, лишь бы нашла. Вон, говорят, факиры в Индии на одной ноге по месяцам стоят. Что ж, если это усмиряет его совесть, либо соответствует потребности смущенного духа — пускай!
Уже опустившиеся вниз старики, казак и казачка, когда мы взобрались наверх, медленно стали всползать туда же, чтобы сейчас опять скатиться в лощину.
Прежде чем уехать из монастыря, надлежало проститься с отцом архимандритом.
Признаюсь, мне вовсе не улыбалось это. Отец архимандрит очень благочестивый и строгий монах, так, по крайней мере, изображали его и Антонин, и Стефан, и Серапион с прочею братиею, но собеседник он невозможный. Куклы такие есть — сидят истово, главою помавают медленно, направо и налево взирают стеклянными очами.
Когда я был в первый раз у отца архимандрита, я даже заподозрил его, не проник ли он в греховную душу мою и не обрел ли в ней чего-нибудь уж очень злоехидного. Но потом я отбросил это соображение в сторону, ибо сознавал, что к обители прилежу, к его особе лично отношусь со смирением и кротостью, и чина монашеского не отметаю вообще, а святогорскую обитель в частности и того менее.
Тем не менее вот образчик нашей душеспасительной беседы.
— Сколько иноков всех в вашей обители?
— Иноков? О, Господи, Господи! Иноки есть… есть иноки.
— Богомольцев много у вас? Из каких мест они больше сюда приходят?
Кроткое помавание головою и взгляд в пространство.
— Кушайте! Благословенное!
И, поддерживая рукав ряски другою рукою, отец архимандрит осторожно берет орех, точно боится ожечься. Я, в свою очередь, отодвигаю угощение.
— Остались ли еще монахи из Глинской обители, товарищи Иоанна-Затворника?
— Не подобает говорить: товарищи.
— А как же?
— Сомолитвенники.
— Так есть они?
— Да, была Глинская обитель… Была… Иоанн-затворник был. Был и нет его!
Хотя осторожность с мирским человеком и надлежит иноку, но все же не до такой степени. А то ведь эта смиренная овечка стада Христова ввела меня даже в соблазн.
«Уж не болен ли он?» — думал я, созерцая помававшего главою отца архимандрита.
Так и теперь, прощаясь с ним, я столь же был утешен сладкогласною беседою.
Только когда я уже вставал, отец архимандрит мечтательно посмотрел на небо и изрек:
— Сие небо — истинно небо афонское и обитель сия уставом афонским правоправится.
1886
Сведения эти дополнены теми, которые приводятся Филаретом, архиепископом Харьковским.
Считаю необходимым оговориться. В Святых горах это был единственный случай вымогательства. Тут иноки лично действительно равнодушны к даянию благу. Сыты.