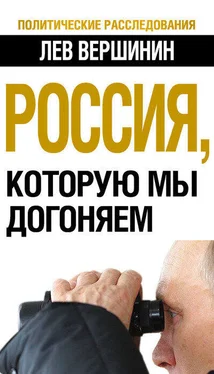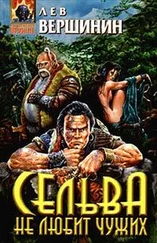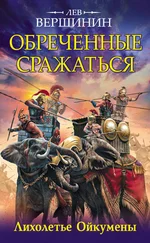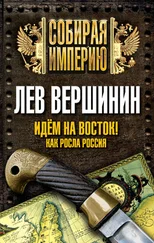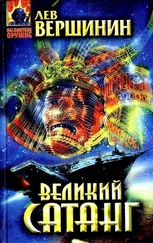Ситуация становилась чем дальше, тем острее. Арабские авторитеты пытались сломать ишув бойкотом. Не получилось. Пытались давить на англичан забастовками и демонстрациями. Тоже не вышло, бритты оказались малосентиментальны и попросту разгоняли толпы смутьянов. А тем временем, пока «верхи» занимались политикой, «улица», ранее рассматриваемая ими как инструмент, привыкала к самостоятельности. В Хайфе, где обе общины жили бок о бок, вперемешку, вокруг известного добродетелями муллы по имени Иззеддин аль-Кассам собрался своего рода «кружок по интересам» из недавних крестьян, потерявших землю и превратившихся в босяков, а потому злых на весь мир. Кто виноват, им было понятно — естественно, евреи. Ну и, ясен пень, англичане, которые им всяко потакают. Но евреи больше. А почтенный наставник еще и внятно разъяснял бедолагам, что вся беда оттого, что люди Аллаха забыли и позволяют «зимми» вести себя по-хозяйски. При этом, правда, оговаривалось, что «понаехавшие», собственно, даже и никакие не евреи, потому что настоящие евреи (всем известно) Бога чтут, ведут себя смирно и правил не нарушают, а эти, новые, и Бога-то не уважают. Из чего прямо следовало, что «старых» евреев обвинять не в чем, а вот «новых» следовало бы извести под корень, после чего Аллах смилостивится и вернет землю. Такой, безо всякой политики, расклад был ясен, а выводы следовали сами собой. Около 1930 года «клуб» превратился в боевую группу, выбравшую себе красноречивое название «Черная рука», — и началось. За два с половиной года хлопцы муллы Изеддина атаковали несколько десятков еврейских поселков, кое-кого убили, многих покалечили, уничтожили много имущества. «Хагана» не всегда реагировала вовремя, и как раз в это время из ее состава вышли «ревизионисты», образовавшие свою военную организацию, «Иргун», куда более жестко настроенную. Однако вчерашние феллахи неплохо конспирировались. Хотя о «Черной руке» знали все (арабы восхищались, евреи психовали, англичане пытались бороться), ничего конкретного о составе и руководстве группы ни властям, ни ишуву выяснить очень долго не удавалось, а «улица», если и знала, молчала намертво, — если же все-таки становилось чересчур жарко, террористы вовремя ловили ветер и залегали на дно. Только в ноябре 1935 года, после серии особо дерзких акций, англичане, задействовав армейские части, сумели по горячим следам выйти на слишком поверившего в свою неуловимость муллу, и наставник был убит в перестрелке вместе с ближайшими учениками. Лондон выразил удовлетворение, последовали награды отличившимся, но сладость успеха была подпорчена впечатлением от похорон погибших боевиков: почтить память павших в деревеньку Балад аш-Шейх сошлись многие тысячи крестьян, и не только из окрестных поселков. Кому сочувствуют «низы», в целом после этого стало предельно ясно.
Короче говоря, вызов был налицо. При этом, как справедливо, на мой взгляд, пишет Джозеф Фаруки, «власти мандата были озабочены, но не испуганы. Новые реалии давали им дополнительные возможности для арбитража и укрепления своих позиций». А вот евреям пришлось всерьез задуматься о том, о чем раньше думать не хотелось. В сущности, лидеры ишува многое понимали. Они — социалисты все-таки, причем рьяные, с уклоном в начетничество, — читали и Маркса, которого чтили все, и Ленина, которого уважали очень многие, и Троцкого со Сталиным, и в самом узком кругу позволяли себе кое-что даже озвучивать. «Мы, — писал Бен-Гурион, — видим ситуацию единственно возможным для себя образом. Арабы видят нечто абсолютно противоположное тому, что видим мы. И абсолютно не важно, видят ли они это правильно. Важно, что видят. Они видят иммиграцию гигантского масштаба, видят, как евреи укрепляются экономически. Они видят, что лучшие земли, неважно, как и почему, переходят в наши руки и что Англия отождествляет себя с сионизмом. Нужно признать, они чувствуют, что борются против обездоливания. Их страх не в потере земли, а в потере родины арабского народа, которую другие хотят превратить в родину еврейского народа». Иными словами, руководству сионистов хватало интеллектуального мужества, как минимум, признать, что их национальный порыв столкнулся с национальным порывом тех, кого они ранее не принимали в расчет. Однако высказать подобное вслух было невозможно, тем паче, что даже признание этого факта ничего не меняло. Идея Возвращения сомнению не подвергалась. Менялись всего лишь установки: если ранее подавляющее большинство ишува было настроено на тесную дружбу с арабами, то теперь вопрос перешел в плоскость, как говорил Жаботинский, «Мы здесь, они там», — и до полной победы или гибели.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу