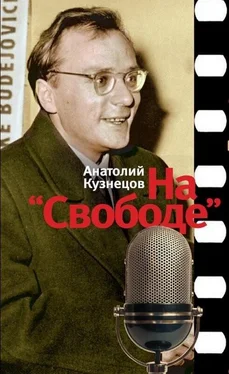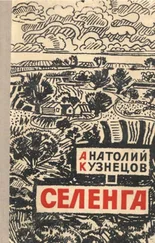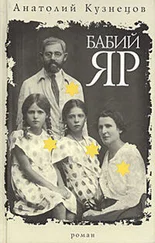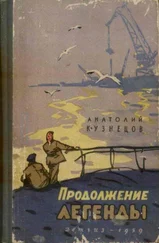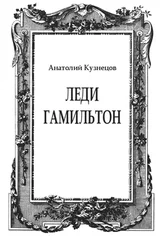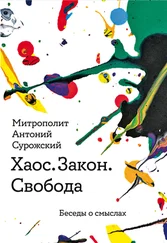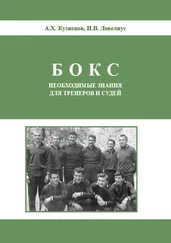«Нет! — возмущенно закричит любой коммунист. — В этот раз ново именно то, что на место прежней элиты не садится новая элита, а все трудящиеся разделили равноправно блага и трон. А это демагогия».
Думаю, сам Ленин отдавал себе в ней отчет, обещая каждой кухарке управление государством. Жизнь доказывает, что каждая кухарка все-таки не может управлять государством. Равноправно-безлично самоуправляющееся общество — абстракция. Из массы кухарок моментально выделяются такие, которые только управлением и занимаются, а остальные как готовили щи в старом мире, так готовят их и в новом. Не все общество, а лишь эти выделившиеся в элиту кухарки занимают место прежних, тех, кто был «всем», практически для них единственно и произошел переворот.
Далее уже частности. Кто половчее, не теряя времени поживился. Правящие кухарки щедро раздают второстепенные блага остальным, менее удачливым кухаркам. При всех переворотах власти происходит передел благ и раздача наград. Жизнь стабилизируется уже под новой «сворой псов и палачей», но начинать приходится от пункта, более далекого от благополучия, нежели раньше, поправляя разруху, заново создавая растоптанное и сожженное при грабеже.
Даже через полстолетия после переворота люди в СССР живут на безобразно низком уровне по сравнению со странами, где продолжали трудиться и в разбойные переделы не ввязывались.
Заколдованный и безнадежный круг. Закон неуничтожимости зла злом неумолимо вступает в силу в момент вынесения первого революционного смертного приговора, в момент, когда перо теоретика выводит: «Экспроприация экспроприаторов», что абсолютно точно переведено народом на людской язык: «Грабь награбленное».
Потому что массы, подстрекаемые к убийству и грабежу, независимо ни от каких теоретически прекрасных мотивировок, становятся не чем иным, как убийцами и грабителями прежде всего. Их ведут убийцы и грабители прежде всего. Когда поубивают всех, кого хотели убить, возьмут, все что хотели взять, — окровавленные руки уже не годятся для строительства добра.
Преступление не может быть оправдано никакой благородной целью. Достоевский гениально показал это в «Преступлении и наказании», из-за этого он так раздражает всех революционных насильников. Они не хотят согласиться, они не верят. Подняться до высоты подлинного добра — это ведь нелегко, это верх мудрости и человечности. Злобность, убийство, насилие — наше звериное наследие. Как-то неловко думать, что интеллектуальные люди Маркс, Энгельс, Ленин, задумав преобразовать мир, не нашли ничего лучшего, как выбрать в качестве орудия как раз самое в человеке низменное. Мол, это есть наш последний и решительный бой, так уж и быть, прольем еще один раз реки крови, зато потом, уж поверьте, будет очень хорошо.
Нет, не будет.
16 декабря 1972 г.
Как умер фильм «Мы, двое мужчин»
У меня была однажды захватывающая работа в кино, счастливая в смысле удовлетворения от ее процесса. Результат получился, правда, курьезный, возможный только в советском кино. Мне многого не жаль, своих книг не жаль — в каждой была доза фальши, — а вот кинофильм «Мы, двое мужчин» по моему сценарию, этот фильм жаль. В нем фальши не было, редчайший случай…
Когда киевская студия имени Довженко предложила мне сделать сценарий из рассказа «Юрка, бесштанная команда», я в восторг не пришел. По мнению кинозрителей, это одна из худших студий страны, она специализировалась на пропагандно-сентиментальных картинах, взяв все самое неудачное из так называемых традиций Довженко.
Александр Довженко был противоречив, он мог гениально снять правду, но тут же истолковать ее с самым пошлым ходульным пафосом. Он вошел в историю мирового кино не благодаря, а несмотря на идейность, доказав, однако, что талант и безвкусица, к сожалению, вполне совместимы.
Обидно тем более, что в жизни, как человек, по крайней мере под конец ее, Довженко казался обладающим большим тактом, деликатным, скромным, похожим на Чехова. Я с ним был знаком незадолго до его смерти, правда, в период опалы, отверженности, что важно. Я работал на Каховской ГЭС, а Довженко жил там, вынашивая свою «Поэму о море». Образовался маленький литературный кружок, которым поручили руководить мне. Довженко, совершенно одинокий и очень несчастный, приходил «на огонек», горячо обсуждал стихи и рассказики членов кружка, и, признаться, я обязан ему многим: он поддерживал малейшие крохи человечности в моих писаниях и деликатно-неотразимо убивал фальшь, пафос или мелодраму. Тем более для меня загадка, как именно все это он позволял самому себе. На киевской студии он посадил большой яблоневый сад — и насадил стиль идейной патетики, выродившийся в карикатуру у его учеников.
Читать дальше