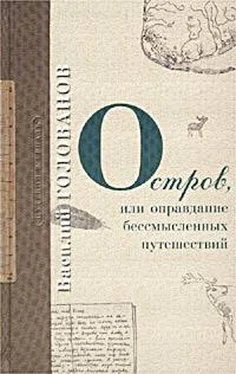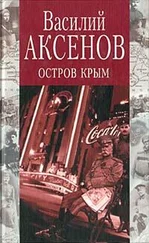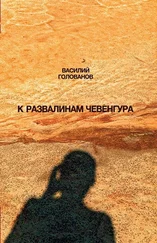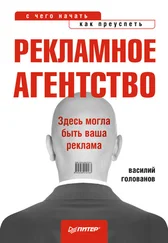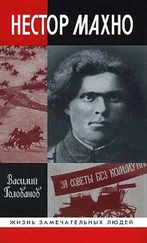Когда Ада и Володя приехали на зимовку, люди тундры уже начали вселяться в дома на берегу, но между домами, вытянувшимися в одну линию вдоль морского берега, то и дело появлялись чумы, обед люди готовили по-прежнему, разводя на улице костер, собирающий семью воедино, да и сил у них было еще так много, что подолгу сидеть дома им было просто невмоготу и они часто срывались в тундру к родственникам, которые оставались жить там, видя лень и одышку в оседлости.
Однажды студенты дождались своего часа – их позвали с собой, дали упряжку и нарты:
«– Это будут твои олени, твои санки…
Сколько лет я ждала этого? Десять? Двенадцать?…»
Милая Ада, девочка Ада, как же так? Тебе, выходит, десять-двенадцать и было, когда Остров из тьмы Севера засиял, как изумруд и своим льдистым светом околдовал тебя в твоем Киеве, где – Боже мой! – весной сирень у Выдубицкого монастыря над Днепром словно волны, переливается всеми оттенками голубого, синего и лилового, где цветущие вишни подобны застывшим дымам и розоватые соцветья яблонь наполняют каждый вдох сладострастной свежестью, а от горячего солнца приходится прятаться в тяжелую тень платанов…
Да, выходит так и было, Ада: ведь именно в детстве мы наследуем земли, которые нам суждено потом покорить…
Возможно, книга Ады – лучшая из всех, написанных о Колгуеве. В ней нет ничего лишнего, она исполнена подлинной поэзии, которая дает автору право не замечать ничего уродливого, той животворящей поэзии, которая даже тупость военного ведомства, запрещающего называть «стратегические объекты» своими именами, обращает себе на пользу: так на страницах появляется маяк «Норд» – блуждающая звезда на кромке последнего берега, за которым нет уже ничего – только льды и ночь, до самого полюса. Не «Северный», а именно «Норд»: только так, и никак иначе надлежало называться маяку на территории спасения. «Северный» – просто обозначил бы одну из бесчисленных запретных зон того времени, «Норд» же заключал в себе память – хотя бы память о тех временах, когда норвежские шхуны подходили к острову то с севера, то с востока, обходя стоянки, которыми исстари пользовались поморы, и как одну из них ветром, который русские называли «полунощник», а норвежцы как раз «норд», снесло на пески и посадило на мель, и среди добра, которое ненцы успели снять с корабля и перевезти на остров, прежде, чем шхуну разбило волнами, оказались две фарфоровые чашки…
Книга заключала в себе ряд намеков, по-видимому, важных для Беглеца, поскольку они оказались среди сделанных выписок, но к чему эти выписки, он мгновенно забыл и понял лишь много лет спустя, когда от души подивился их ясности и недвусмысленности:
«…В тундре вообще ничего не пропадает…»
Речь шла, как будто, о предметах: чашках, ложечках, часах, старинных ружьях, за которыми тянулись длинные, похожие на сказки истории. Но в то же время речь шла и о чем-то другом, угрозу чего он смутно ощущал: «Приехавший сюда человек не может быть временным по какой-то внутренней перспективе своей работы; приехавший сюда человек и не бывает временным, его жизнь здесь не кончается с его отъездом; как нигде в другом месте сохраняется память о нем – о его поступках, о сказанном им…» Он чувствовал, что речь идет о долге, о долге, который свяжет его свободу, свободу Беглеца. Но он не чувствовал себя должником Острова, поскольку еще и не побывал на нем. Да и впредь он не желал принадлежать ему, не желал сопрягать себя со словом «долг»; в конце-концов, он хотел только увидеть Остров – и все. И никаких долгов, только захватывающие дух приключения…
С восторгом прочитывает он страницу за страницей, слегка завидуя двум счастливцам, олени которых, по брюхо проваливаясь в ледяную трясину, все же вытягивают их накренившуюся упряжку с одеждой, этюдниками и красками на простор цветущей тундры, к древним холмам и становищам, где живут люди с именами прекрасными, как слова позабытого древнего языка: Уэско, Таули, Иона, Иде…
Здесь открывается им мир Стрелка. Здесь, в зеленой чаше, на дне которой покоится золотая льдинка озера, по-прежнему бродят стада, горят в сумерках костры и старики рассказывают детям про женщину, которую давным-давно прибило к острову на льдине, Хаду Ваэрми; про то, как она жила, догоняя оленей и убивая их, до тех пор, пока кто-то не взял ее себе в жены и она не осталась на острове навсегда. Здесь маленький Иона поет дедовы песни, сидя на зеленом холме, здесь полновластно еще время кочевья; быт, при котором ни одна палочка длиной в карандаш не должна сгореть зря; жизнь, в которой каждый шаг, каждый жест отполирован временем до совершенства, до символической фигуры…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу