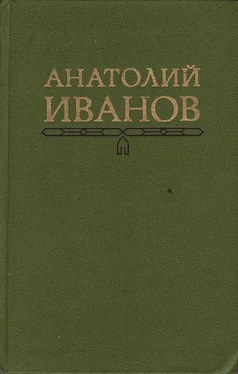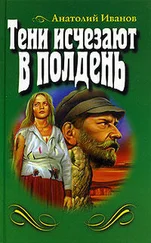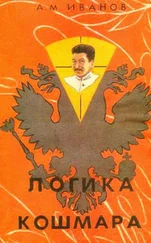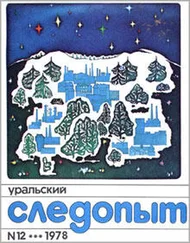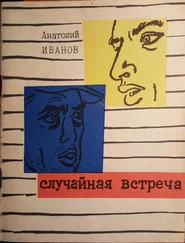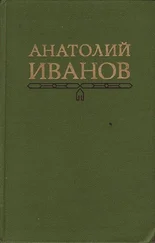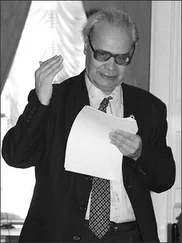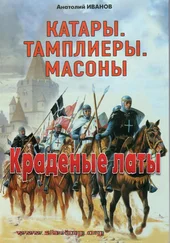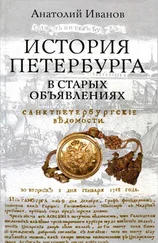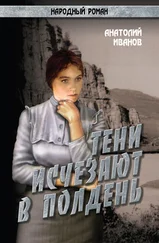В одном из своих постановлений того времени Сиббюро ЦК РКП (б) отмечало:
«Преобладание молодняка в Сибирской организации, сплошное мелкобуржуазное окружение, в котором находится наша партия, отдаленность главной массы деревенских пунктов от городов и магистрали, что мешает влиянию партии на деревенскую массу; при технической невозможности проведения широких устных агиткампаний (отсутствие работников, обслуживающих Сибирь, недостаточная квалификация их, а также крупные расходы, связанные с откомандированием) выдвигают организацию печати в ряде агитационно-пропагандистских задач, стоящих перед парторганизациями Сибири, на первое место, как лучшего в сибирских условиях организатора и проводника партийного влияния на массы, как стержня всей агитационно-пропагандистской работы».
В силу причин, изложенных в этом и других подобных постановлениях Сиббюро ЦК РКП (б), 18 декабря 1921 года на заседании редколлегии Сибгосиздата, членами которой являлись Е. Ярославский, Д. Тумаркин, М. Басов, Ф. Березовский, В. Правдухин, а секретарем — Л. Сейфуллина, обсуждался вопрос о целесообразности издания в Сибири журнала — «художественно-литературного, политико-экономического, популярно-научного, искусства и библиографического». Издание такого журнала было признано целесообразным, появилось его название…
Через несколько дней была составлена докладная записка в Сиббюро ЦК РКП (б), 27 декабря эта записка обсуждалась на заседании Сиббюро ЦК, где и было принято решение об издании «Сибирских огней». На другой же день, 28 декабря, редколлегия Сибгосиздата поручила М. Басову, Ф. Березовскому и В. Правдухину развернуть работы по сбору материалов для будущего журнала и приглашение к сотрудничеству в нем литераторов. Та же редколлегия 16 февраля 1922 года утвердила содержание первого номера нового журнала, а 13 марта была наконец сформирована и утверждена первая редколлегия «Сибирских огней» в составе Е. Ярославского, Д. Тумаркина, В. Правдухина, Ф. Березовского, М. Басова.
И вот наконец 21 марта 1922 года вышел первый номер журнала. «В маленьком помещении на Потанинской началась невообразимая сумятица, — вспоминала потом Лидия Сейфуллина, бывшая тогда секретарем редакции „Сибирских огней“. — Все повскакивали с мест, бросили работать. Каждому хотелось посмотреть, тронуть свежие, чистенькие книжечки в зеленоватой, довольно неудачной обложке…»
Тогдашний нарком просвещения А. В. Луначарский, внимательно следивший за рождением нового журнала, так отозвался на его выход:
«Первый номер журнала „Сибирские огни“ кажется мне очень удачным. Насколько я могу судить, рядом, и, может быть, даже несколько выше ивано-вознесенского журнала „Начало“, этот журнал приходится признать за лучший из провинциальных. Не могу сказать, чтобы беллетристика журнала принесла с собой какие-нибудь яркие новости, но тем не менее она держится на удовлетворительном уровне, а если отнести к беллетристике великолепные воспоминания Ширямова „Сихотэ-Алинь“, то уровень этот придется значительно поднять. Это произведение, в особенности в первой его части, где автор нашел полные краски для изображения особой красоты этого малоизвестного края, превосходно…»
«Вообще приятно узнать из журнала „Сибирские огни“, — заканчивал А. В. Луначарский свой отзыв о первом номере журнала, — насколько все-таки энергично пульсирует там коммунистическая и коммунистам сочувствующая мысль».
Да, рождение профессионального «толстого» литературного журнала в далеком, захолустном городишке Новониколаевске, затерявшемся среди бескрайних степей и лесов, было явлением примечательным и необычным. Это понимали первые его сотрудники, возглавлявшиеся Емельяном Ярославским, понимали, какую важную роль может сыграть такой журнал. И каждый из них трудился на благо журнала самозабвенно, с полной отдачей сил. Каждую мало-мальски талантливую статью, очерк, рассказ, повесть или стихотворение немедленно обсуждали на редколлегии, стремясь помочь автору улучшить, доработать свое произведение, превратить его в пригодное для печати, собирались для этого в любое время суток и там, где это было удобнее для скорейшего прибытия всех, — то в помещении Сибгосиздата, то на квартире у Ярославского, то у Березовского… Так вспоминала потом об этих необыкновенных днях Лидия Сейфуллина. «Только теперь я понимаю, — писала она уже в 1947 году, — какой исключительной ценностью было отношение к журналу „Сибирские огни“ всех его руководителей. Большая партийная работа возлагала на них множество обязанностей… но не было ни одного несостоявшегося заседания редакционной коллегии, ни одного невыполненного обещания о сдаче в срок статьи, материала для номера…»
Читать дальше