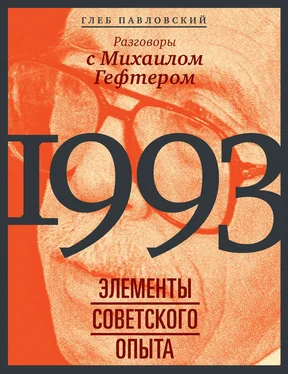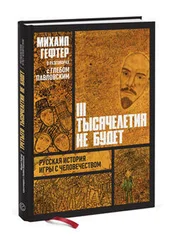Голосом, интонацией или как? Он стал иначе восприниматься?
Я услышал человеческий голос, обращенный к моему страданию. Неважно, что тут была доля наивности. Я был советский мальчик, которому в мире все было ясно. Эта ясность была ясностью «Овода» 16, ясностью «Андрея Кожухова» 17. Ясностью «Войны и мира», которая прошла целым пластом породы сквозь мою жизнь. Каждый год я перечитывал «Войну и мир». Если современному человеку, который при слове Маркс начинает смеяться, сказать, что «Арион» для меня тогда стал как молитва и я его ежедневно твердил, ему это покажется нелепым.
Пушкин был утешением? Поддержка одинокому?
Для мальчика важно не утешение. Перед ним впервые возникла задача, что человеком быть трудно. И надо решать, то ли выйти из ситуации, то ли чем-то стать. А в 80-х годах Пушкин пришел ко мне совершенно другим – как впервые .
Прежний Пушкин не обращен был ко мне лично. И вдруг я слышу, как он ко мне обращается. Но и я к нему, соответственно. Надо сказать об этой особенности моей психики, которая всякий раз за исход чего-то расплачивается, получив зато опыт другой жизни. В 1982 году из рук уходило дело, уходили вы… И как уходили, в лагерь! Переломленные судьбы, опустевшая сцена. И некоторые вещи впервые приходят мне в голову.
Как-то ночью 1982 года я просыпаюсь и понимаю – без 14 декабря 18«Мертвые души» не могли появиться. Возникает вопрос: неужели действительно не могли? Да! Пока вся авансцена была занята инакомыслящей молодежью, которую одним махом смело в равелин 19. Блистательные люди Тынянова 20с коротким дыханием, они отсчитывали себя от победы Французской революции, от начала XIX века, от Наполеона, которого одолели.
Как вдруг сцена опустела и стала видна Россия во всей глубине ее страшности. Декабрь 1825 года. Некрополь, мертвые души и опустевшая сцена – вот картины, которые приходят в голову, и у меня открывается потребность не в коротком, а в полном дыхании. Найти точку опоры себе в чем-то расширенном. В этой потребности сохраниться я отсчитываюсь уже не от текущего. Хотя, конечно, не забывал ни на секунду о судьбах людей, близких мне. Ваших судьбах.
У меня давно подготовленная, взрыхленная почва знания о том, что русский XIX век – моя духовная родина. В это время оно созрело и выступило. Я читал то апостола Павла, то «Идиота» Достоевского, читал «Авессалома» Фолкнера 21, который произвел переворот в душе. Все вместе как-то выстраивалось. Неожиданно, внезапно, необъяснимо почва под ногами возникла, и то был XIX век, моя почва.
Я не литературовед, не пушкинист. Я не выступаю как дилетант, ворвавшийся в сферу, где бесконечно трудились исследователи. Нет, я шел навстречу внутренней потребности каждый день садиться за стол и писать про это. И шло, и писалось. Сегодня мне сложно реорганизовать тот мой пушкинский текст в книгу, восстановив блуждания собственного духа. Ввести в атмосферу человека, который сидит в Москве взаперти, что-то пишет и ищет таким способом свободу себе и себе подобным. Мое «себе» распространялось и на ваши действия, моих молодых друзей.
Поведение которых тебе надо было объяснить?
Я не объяснений искал. Я решал ту же задачу для себя, что и вы там. Задачу, которую русские решают уже не раз, – примирения с подлой действительностью. Близость проекта Пушкина к проекту Николая дала ему внутренний стимул. Возникает ситуация, которую я назвал добровольная несвобода, и та его сильно питает. Делая одновременно открытым и трагическим и готовя ему конец.
Чудовищная власть пушкинского авторитета мешает видеть, что он с нами наделал! Нужно обрести свободу по отношению к Пушкину, в ней ключ. Не валять дурака, будто поэт возвышенно затворяется в кабинете и пишет гениальные строфы «Пророка». Потом вспомнил – ах, черт, что скажет Бенкендорф? Тогда садится и быстренько пишет «Стансы» царю Николаю, чтоб отвязался. Не привязывая Пушкина к тому, что ему чуждо, – к демократизму в современном понимании, я опускал и его политические рассуждения. Я сейчас говорю о Пушкине всей России.
Человек замкнутого петербургского круга, он вместе с тем первый в России человек дороги. Человек дороги всем своим существом, он первый как личность делает заявку на Россию. То, что движет новым николаевским Пушкиным, – это раскрепощение России словом – уравнением людей любого ранга и сословий знанием русского языка, образа русской жизни.
Оттого легко присваивается все, что для этого нужно. Например, Пушкин ни разу в жизни не видал оренбургской пурги, истинной снежной бури. В «Капитанской дочке» его описание с чужих слов сопровождается поэтому неточностями. Есть оригинал Аксакова, который Пушкин отредактировал, сделав мускулистым, кратким.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу