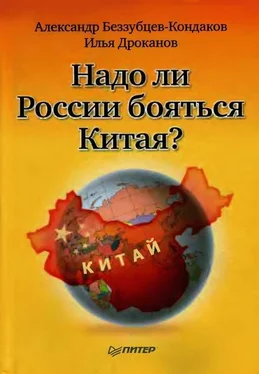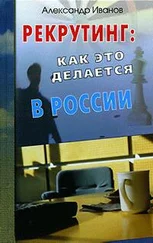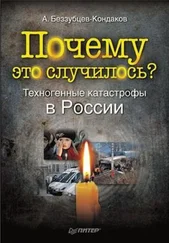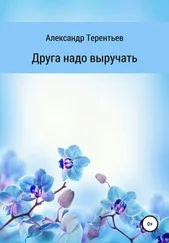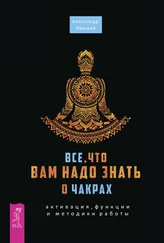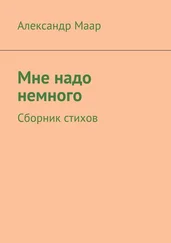1 ...8 9 10 12 13 14 ...97
«Где нет свободы — там Китай»
Плывем по Янцзы, и я понимаю: это Волга твоя.
Константин Симонов
«Где нет свободы — там Китай». Эти слова принадлежат российскому революционному демократу XIX столетия Николаю Шелгунову, который точно сформулировал представление о Китае, распространенное среди «передовых людей» России, либеральных мыслителей и разночинной интеллигенции. Для российских западников Китай стал явлением не географическим, а мировоззренческим. Он превратился в символ. Россия, объявленная «тюрьмой народов», страна царей-деспотов, алчных чиновников, полицейского произвола и цензуры, тоже стала «немного» Китаем. Европа воплощала свободу, а Китай — рабство и дикость «азиатчины».
До наступления эпохи Просвещения отношение европейцев к Китаю оставалось в целом позитивным и заинтересованным. Европейские страны даже пережили моду на все китайское, в искусстве был популярен стиль «chinoiserie». Затронула эта экзотическая мода и Россию, куда после Нерчинского договора 1689 года купцы начали привозить из Китая редкие и дорогие вещи — фарфор, живопись, шелка, ковры, веера… Во многих богатых домах создавались целые китайские коллекции. Мода на все китайское ярче всего запечатлелась в российской архитектуре: в начале XVIII века во дворце Монплезир по приказу Петра Великого был сооружен Китайский кабинет, в 1762-1768 годах по проекту итальянского архитектора Антонио Ринальди в Ораниенбауме строится Китайский дворец, окруженный беседками и домиками в «восточном стиле», в 1779 году в Царском Селе был открыт летний Китайский театр, на сцене которого ставили комическую оперу итальянца Дж. Б. Лоренци «Идол китайский».
Но вскоре Китай перестал казаться страной привлекательной и таинственной экзотики. Представление о нем становится все более политизированным и идеологически окрашенным. И в Европе, и в России многие стали задумываться о том, что Китай — это не только страна происхождения дорогих безделушек, но и родина чуждых европейцам политических идей. Как известно, мыслители французского Просвещения, заложившие основы современного представления о правовом государстве и свободе личности, предложили европейский путь исторического развития как наиболее предпочтительный для всех цивилизаций мира. И представление о прогрессе они признавали исключительно европейского образца — вне каких бы то ни было религиозных и национальных различий. Прогресс — это распространение европейского опыта на весь мир… Подобная идеологическая матрица, созданная в эпоху Просвещения, по сей день определяет мировоззрение европейских и американских политиков, которые искренне полагают, что вне европейского пути нет других моделей цивилизованного развития общества. «Цветущая сложность» мировых цивилизаций, пестрая палитра языков и религий в соответствии с этой концепцией должны быть сведены к общему знаменателю, унифицироваться, принять европейский «покрой». И с этих европоцентричных позиций деятели Просвещения смотрели на китайскую цивилизацию. Поэтому вполне естественно, что Китай предстал в их глазах в самом невыгодном свете. Например, Шарль Монтескье заявлял, что Китай — «государство деспотическое, принцип которого — страх». Философы Просвещения создали образ Китая как страны, не имеющей представления о личной свободе и частной собственности, основанной на угнетении, рабском подчинении, постоянном унижении человеческого достоинства. Российская императрица Екатерина Великая испытала огромное влияние идей французского Просвещения и именно в духе идеологии просветителей провозгласила на страницах «Наказа комиссии о сочинении проекта нового уложения»: «Россия есть европейская держава». Тезис о принадлежности России к Европе имел значение идейного самоутверждения: Екатерине было важно доказать всей Европе, что российское общество отличается от азиатских нравов и традиций. Китай же стал для российской государыни воплощением варварства, отсталости и невежества. В письме философу Вольтеру Екатерина сообщает, что «благодаря моим делам с этим правительством (китайским. — Авт.) я могла бы сообщить сведения, которые уничтожили бы мнение, составившееся об их умении жить, и заставили бы их считать за невежественных олухов». Императрица, как видим, не стеснялась в выражениях, когда речь заходила о китайцах. Гаврила Державин запомнил примечательную фразу Екатерины: «Я не умру до тех пор, пока не выгоню турков из Европы, не усмирю гордость Китая и с Индией не осную торговлю». Национальная гордость китайцев казалась европейцам ничем не обоснованной и вздорной, а кроме того — проявлением их варварства и странного нежелания вкушать плоды просвещения.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу