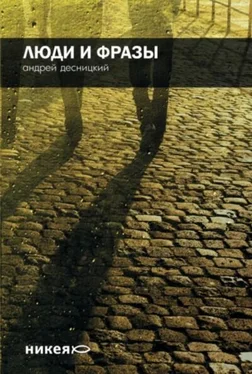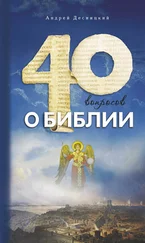И всем нам порой достаточно было просто посмотреть на нее, чтобы заново ощутить смысл, вкус и радость жизни. Сама жизнь — лучше о ней и не скажешь.
Стоило в 2009 году выйти на экраны фильму «Царь», как один из актеров, снимавшихся в этом фильме, вынужден был уйти с места основной работы. Священник Иоанн Охлобыстин, сыгравший шута Вассиана, подал патриарху прошение о снятии с него священного сана, и прошение было удовлетворено. Слишком много нареканий вызвал сам факт, что священник снялся в кино, да еще и в роли явно сатанинского персонажа, построенной на сплошной истерике. Отец Иоанн, конечно, человек очень своеобразный, и вряд ли нам стоит подробно разбирать особенности его биографии или судить о правомочности его священ-нослужения (или, если угодно, актерства) — это просто не наше дело.
Зато мы можем задуматься о другом: а как вообще сочетаются актерство и христианство? Ведь если священник параллельно своему служению работает бухгалтером или инженером (а если уж брать творческие профессии, рисует картины или пишет книги), это никого не удивляет, таких примеров немало. А вот священник-актер… и в самом деле соблазнительно звучит. Почему?
Конечно, существуют древние каноны, строго запрещающие священникам не то чтобы играть — даже посещать театры. Эти запреты многократно повторялись от собора к собору, вот что гласит, к примеру, 24-е правило Шестого Вселенского собора: «Да не будет позволено кому-либо из числящихся в священном чине или монахов развлекаться на конских бегах или придерживаться сценических игр». Но сегодня это правило совершенно не соблюдается: священники ходят в театр, не говоря уже о мирянах, и никто никого не отлучает. Кстати, древние каноны требовали: если «лицедей», то есть актер, принимал христианство, он должен был навсегда оставить свое ремесло под угрозой отлучения. Сегодня многие профессиональные актеры — воцерковленные христиане, но они продолжают играть в театре и кино. Например, мой отец.
Почему так? Подсказкой тут служит 62-е правило того же Шестого Вселенского собора: «Желаем совершенно изъять из жизни верных… всенародные пляски женщин, могущие произвести большой соблазн и вред; также отвергаем пляски и обряды, совершаемые мужчинами и женщинами во имя ложно названных у язычников богов по какому-то древнему и чуждому христианской жизни обычаю, и определяем, чтобы никакой мужчина не одевался в женское платье, или женщина в платье, приличное мужчинам, также чтобы никто не надевал на себя личин комических или трагических, — чтобы не призывали имени гнусного Диониса, когда выжимают виноград в точилах, не творили безумного по невежеству или легкомыслию, когда сливают вино в бочки. Тех, которые отважатся делать на будущее время что-нибудь из упомянутого выше, зная это постановление, тех повелеваем, если клирики извергать, а если миряне отлучать».
Вполне очевидно, что запрещается здесь не само театральное искусство, не Чехов или Шекспир, а языческие празднества, сопровождавшиеся театральными играми. В нашем мире самой ближайшей аналогией будет не Большой и не МХАТ, а, пожалуй, разудалая вечеринка в ночном клубе, да и то она не содержит никакого языческого элемента. А ведь театр в языческой древности был культовым не в меньшей степени, чем храм, и служили в нем далеко не только искусству. Сами театральные представления были неотъемлемой частью языческих празднеств и начинались с жертвоприношений. Естественно, на сцене актеры часто играли жрецов и даже богов, причем на зрителя, надо полагать, такое представление производило куда большее впечатление, чем традиционные храмовые обряды. Нередко сами театры становились местом мученичества первых христиан, которых казнили на потеху всему городу.
Неудивительно, что торжество христианства означало упразднение языческого театра. До сих пор в Херсонесе (античном городе на территории современного Севастополя) можно видеть развалины античного театра, а поверх них — развалины церкви, построенной точно на этом месте. Но, что интересно, сегодня в летнее время в этом театре снова дает представления местный драматический театр, играют в том числе и античные трагедии — но уже совсем иначе, просто как произведения искусства. Играют, кстати, очень хорошо.
С другой стороны, и христианская культура выработала свои, вполне для нее приемлемые, формы театральных спектаклей. Всем, наверное, знаком рождественский вертеп — так называется не только статичная композиция, но и целое представление кукольного театра на тему Рождества. А было еще и «пещное действо» по книге пророка Даниила… Словом, само по себе актерское искусство не противоречит христианству и вполне может служить проводником христианских ценностей.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу