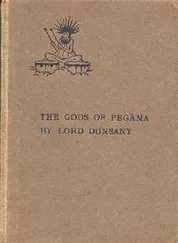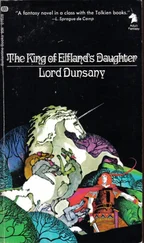Лорд Дансени
В НАШИ ДНИ
Lord Dunsany. Nowadays
1918
(Посвящается Клубу Поэтов)
Я приглашаю читателей перенестись вместе со мной на крыльях фантазии в какой-нибудь большой город. Давайте представим, что бескрайние поля остались где-то далеко позади, бросим мрачный взгляд на небо, унылый взгляд на траву; воздух, кажется, погружен в размышления о чем-то печальном; рекламные щиты, всегда уродливые, всегда лживые, часто непристойные, которые не покидали нас весь день в самых пустынных местах, здесь умножаются, и внезапно на нас обрушиваются грязные улицы. И грязь их поистине ужасна. Житель самого бедного коттеджа в деревне, обитатель палатки в сердце пустыни, даже бездомный бродяга — все они могут, как бы ни был тяжел их жребий, в любой момент уйти к холмам, к дикому ветру, к вересковой пустоши, к чему-то, что не остается вещью в себе, а является частью того плана, в котором свое место занимают и далекие звезды. Но в городе! Ночь — сияет огнями фабрик, день — полон забот. И ночью и днем все читают, читают, читают — дети и взрослые, всегда читают, хотя они того или нет. Читают, читают, читают, пока они не перестают понимать, что же такое читают. И что же у них перед глазами? Все самое низменное. Все обыденные, дразнящие слова рекламодателя, расхваливающего свой ядовитый товар, который не посмеет запретить ни одно правительств. Ибо все они знают, что власть мошеннического средства слишком велика, чтобы ее можно было уничтожить с безопасного расстояния или с помощью аплодисментов. Так что рекламный щит остается на своем месте, единственная литература для народа; он возвышается посреди этого логова людей, современного фабричного города, возвышается свидетельством человеческих амбиций.
Разумеется, кто-то будет смотреть на все эти вещи, мысленно возносясь на опасную высоту, о подножие которой бьются черные волны пессимизма. И кто-то обратится тогда к поэтам. Кто-то увидит святые традиции, почтительно передаваемый плащ Гомера. Я слышу, как кто-то говорит, что поэтов в наши дни не осталось, и я с уважением принимаю это суждение, от кого бы я ни услышал его, ибо нет более ужасной вещи, чем самому судить себя. Это означает, что все эти люди остались в полном одиночестве, без переводчика. Ибо как может кто-то увидеть и понять такую древнюю вещь, как жизнь, или такую новую и странную вещь, как этот переменчивый век, полный машин и политики, понять без помощи тех редких умов, которые обращаются, не колеблясь, к самому существенному?
Есть только два способа постичь жизнь: мы могли сделать это сами, если бы у нас было время, но шестьдесят лет и еще десять — не слишком долгий срок; времени недостаточно, хотя кто-то может добавить к этому промежутку двадцать или двадцать пять из тех лет, о которых псалмопевец сказал, что все они — труд и горе. Есть только два способа постичь жизнь: один — отыскать неких древних людей, каких-нибудь старожилов-крестьян, и заимствовать частицу из их закромов мудрости, которые они могли заполнить в те времена, когда войны и потрясения уничтожали троны и цитадели королей. Я никогда не слыхал ни колыбельных песен, ни древних пословиц, но озарение посетило меня в этом веке, который торговля и политика сделали столь омерзительным — подобно тому, как легкий прохладный бриз врывается в задыхающийся город из-за каких-то далеких тихих холмов. И единственный иной путь, который мне известен, единственный способ постичь значение жизни и смысл существования человека — это обращение к поэтам. Ни один человек за всю свою жизнь никак не сможет постичь этого, и я не думаю, что какой-то поэт будет утверждать или предполагать, что знает больше, чем любой другой человек; но в неведомые мгновения, всегда нежданно, достигает его сознания тот самый чистый голос. И ощущая собственное невежество и страх, поэт начинает говорить о городах, которые ему ведомы, и о тихих дорогах, по которым он шагал в тех краях, где пустыня давно захватила все, возвращая свои владения, где историки могут только гадать, где путешественники не дерзнут ступить. Поэт говорит о вещах, которые были до появления городов, и о богах, которые блуждали с ним в сиянии звезд. Потом голос пропадает (подобно ветру в Евангелии от Иоанна), и снова остается один только человек, со всеми унижениями, присущими человеку.
Мне кажется, что неким способом, лежащим за пределами нашего понимания, поэта, по глубине его опыта и широте познания жизни, следует сравнивать не с отдельными личностями, а с многими поколениями людей; и конечный продукт всей человеческой культуры, кажется, немного более, чем возвращение к некой давней простоте.
Читать дальше