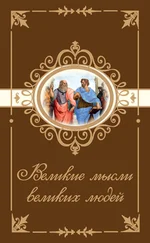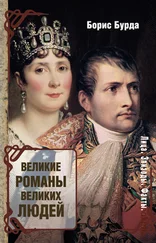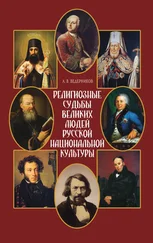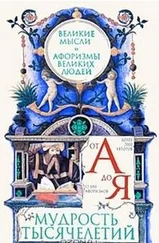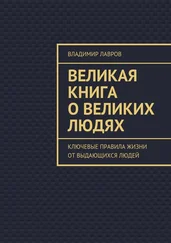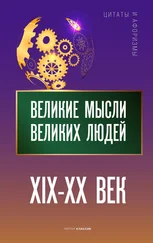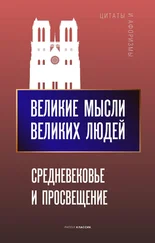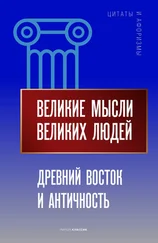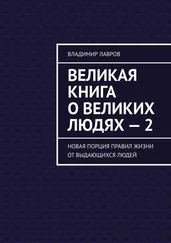Скобелев стоял в старинной московской гостинице Дюсо и буквально шага не мог сделать с подъезда ее без того, чтобы не быть в ту же минуту окруженным восторженною толпою влюбленно глазевших зевак. В Охотном ряду торговцы перед ним на колени становились. Я видел его только мельком. Эффектный был генерал. Молва приписывала ему тогда разные политические затеи, чуть не до государственного переворота включительно. Произвести таковой Скобелев не мог бы, да едва ли и хотел когда-либо, но, по тогдашнему своему влиянию на массы, пожалуй, был бы в состоянии при честолюбивом капризе наделать правительству немало хлопот. В болгарские князья он, кажется, в самом деле собирался. О Скобелеве я очень много наслушался от весьма дружного с ним, великого его поклонника, Василия Ивановича Немировича-Данченко. Впрочем, надо оговорить, что Василий Иванович, по страстной своей влюбленности в «Белого генерала», очень его идеализировал, и возможно, что многие красивые скобелевские планы, о которых Василий Иванович, бывало, вдохновенно нам повествовал, родились и исходили совсем не из скобелевской головы, а из пылкой фантазии писателя, который, будучи влюблен сам, усердствовал и нас влюбить в своего обожаемого героя.
* * *
Популярность Антона Рубинштейна сказывалась не так шумно и показно. Но он — едва из вагона — вдруг как-то тихо, флюидически напитывал собою московскую общественную атмосферу. Он держал себя невидимкою, был, пожалуй, даже до известной степени нелюдим, но развивалось в культурных слоях столицы заочное к нему влечение мыслями и чувствами. Словно посетил город монарх, который не спешит выступлением пред народными массами, но, замкнувшись в своей резиденции, в молчании, готовит необычайно важный для всех и каждого манифест. Либо — похоже — как приехал из-за тридевяти земель высокочтимый святитель, от которого ждут, что он всенародно совершит некое сверхъестественное чудо. И ожидания оказывались ненапрасными. Манифест действительно выходил, чудо действительно совершалось — в форме очередного концертного выступления Антона Григорьевича.
В сроке же флюидического ожидания чуда воцарялось в обществе временное единобожие: все другие боги и полубоги, любимцы московской молвы, отступали с переднего плана сцены вглубь, в тень. Даже Николай Григорьевич Рубинштейн, хозяин и диктатор музыкальной Москвы, принимая в ней великого гостя, брата, держал себя, да, вероятно, так себя и чувствовал, королем, принимающим в своей столице императора.
Братья хорошо дружили, как родственники и как артисты, но весьма разно мыслили, чувствовали, жили. Николай помимо музыкального образования получил и общее, высшее, прошел, хотя и плохо, Московский университет по юридическому факультету и навсегда остался тесно связан с ним, как с корнем московского культурного быта, старостуденческими симпатиями, — и, по силе их, был не только своим человеком в московской интеллигенции, но и властно влиятельным ее членом-деятелем. Антон во всем, кроме универсального знания музыки, был почти что самоучкою. И тем не менее по характеру, нравам, образу жизни, даже по служению святыне искусства он был гораздо культурнее, несравненно более европеец, чем Николай, темпераментный и неуравновешенный москвич, живое воплощение романтического сочетания — «гений и беспутство».
Вокруг Николая бесчисленно роились легенды кутежного, донжуанского, игрецкого содержания, и это не умаляло его в общественном мнении, скорее даже как-то шло ему. За Антоном никаких беспутных легенд не водилось и не могло водиться: уж очень не шли бы они этому «старому фортепианщику на антресолях». Так, шутя, определял он себя, замкнутого в волшебном круге музыкального творчества, непревосходимо гениального мастера-виртуоза и, хотя весьма превосходимого по качеству, но тоже почти непревосходимого по количеству производства, мастера-композитора.
В один из московских концертов Антона Григорьевича приключился трагический «инцидент». В смежном с концертным Екатерининском зале Дворянского собрания, у памятника Екатерины II, застрелилась некая девица немолодых лет, оставив записку, что лишает себя жизни по безнадежной любви к Антону Рубинштейну, сознаю, дескать, несбыточность своих мечтаний о взаимности, а без нее мне жизнь не в жизнь, и одна последняя радость — умереть под звуки рояля моего полубога! С Антоном Рубинштейном эта «наша симпатичная самоубийца» даже не была знакома. Приключись подобная история с Николаем Григорьевичем, какие вихри сплетен закружились бы в московском воздухе. Насчет же Антона никто и не подумал злословить — все только жалели великого артиста, что пришлось ему пережить ни за что ни про что сильное нервное потрясение, и повторяли фразу, будто бы им сказанную:
Читать дальше